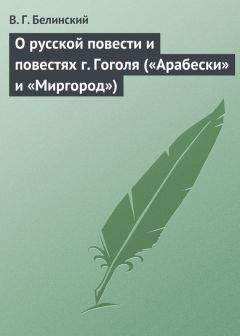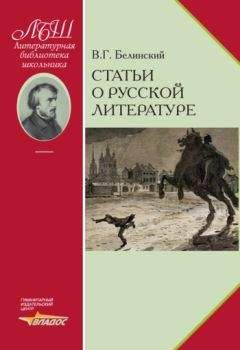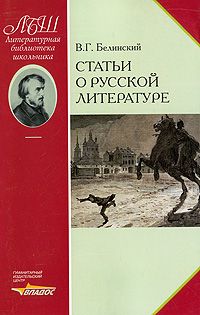Виссарион Белинский - О русской повести и повестях г. Гоголя
Итак - Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов, Гоголь - здесь полный круг истории русской повести. Да - полный, может быть, чересчур полный; но я говорил здесь о всех повестях, в каком бы то ни было отношении примечательных, а эта примечательность состоит не в одной художественности, но и во времени появления, и во влиянии, хорошем или дурном, на литературу, и в большей или меньшей степени таланта, и, наконец, в самом характере и направлении. Поименованные мною авторы должны быть упомянуты в истории русской повести, по всем этим отношениям, и суть истинные ее представители. О других, которых много, очень много, умалчиваю, ибо, при всех своих достоинствах, они не касаются предмета моей статьи, и потому перехожу к г. Гоголю. Им заключу историю русской повести, им заключу и мою статью, которая, против моей воли и ожидания, сделалась очень длинна.
Приступая к разбору сочинений г. Гоголя, я не без намерения распространился о поэзии вообще, о повестях как о роде, и о повести русской; если я только умел развить мою мысль, то читатели увидят, что все эти предметы находятся в существенной связи между собою. Мне кажется, что для надлежащей оценки всякого замечательного автора нужно определить характер его творений и место, которое он должен занимать в литературе. Первый можно объяснить не иначе, как теориею искусства (разумеется, сообразно с понятиями судящего); второе - сравнением автора с другими, писавшими или пишущими в одном с ним роде. Мы видели, что у нас еще нет повести, в собственном смысле этого слова. Г-н Марлинский замечателен как первый, намекнувший нам о том, что такое повесть; для кн. Одоевского повесть есть только форма; два-три удачных опыта г. Погодина еще не составляют авторитета, сколько потому, что их достоинство одностороннее, столько и потому, что они были для своего автора делом посторонним, отдыхом от ученых занятий. Итак, остаются только г. Павлов и г. Полевой; но г. Павлов еще только начал свое поприще, а как бы ни прекрасно было начало, по нем нельзя произнести решительного суждения о писателе; следовательно, первенство поэта-повествователя остается за г. Полевым. Но в его повестях или, справедливее, в большей части его повестей есть один важный недостаток, о котором я с намерением умолчал в своем месте. Этот недостаток состоит в том, чти в них, как и в его романах, при многих очевидных признаках истинного творчества, истинной художественности, заметно, и большое участие ума, этого ума пытливого, светлого и многостороннего, который в художнической деятельности ищет отдохновения и для которого и самая фантазия есть как бы средство изучать природу и жизнь человека. Это, по большей части, синтетические поверки аналитических наблюдений над жизнию. Посмотрим, нет ли между нашими такого поэта-повествователя, для которого поэзия составляла бы цель жизни, а наука была бы ее отдохновением, для которого повесть была бы родом, а не формою, родом столько же необходимым и безотносительным, как повесть для Бальзака, песня для Беранже, драма для Шекспира, который был бы только поэт; а не другое что-нибудь, поэт по призванию, поэт по невозможности не быть поэтом. Мне кажется, что, под этими условиями, из современных писателей {Я не включаю в это число Пушкина, который уже свершил круг своей художнической деятельности.} никого не можно назвать поэтом с большею уверенностию и нимало не задумываясь, как г. Гоголя.
Я уже сказал, что задача критики и истинная оценка произведений поэта непременно должны иметь две цели: определить характер разбираемых сочинений и указать место, на которое они дают право своему автору в кругу представителей литературы. Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют - простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь - поэт, поэт жизни действительной.
Знаете ли, какой вообще недостаток находится в нашей критике? Она не совсем хорошо приноровлена к нашим потребностям. Критик и публика - это два лица беседующие: надобно, чтобы они заранее условились, согласились в значении предмета, избранного для их беседы. Иначе им трудно будет понять друг друга. Вы разбираете сочинение, с важностию говорите о законах творчества, прилагаете их к разбираемому сочинению и, как 2 X 2 = 4, - доказываете, что оно превосходно. И что ж? Публика восхищена вашею критикою и вполне соглашается с вами, видя, что, в самом деле, пункты эстетических законов подведены правильно и что в сочинении _все обстоит благополучно_. Но вот что худо: часто случается, что она забывает о превознесенном сочинении еще прежде, чем забудет о вашей критике. Отчего же так? Оттого, что разбираемое вами сочинение была хитрая, галантерейная работа, а не изящное создание, что оно, может быть, имело эстетическую форму, но было лишено духа жизни эстетической. У нас еще так зыбки понятия об изящном и вкус еще в таком младенчестве, что наша критика по необходимости должна отступать в своих приемах от европейской. Хотя некоторые досужие наши эстетики и говорят, что будто бы законы изящного определены у нас с математическою точностию, но я думаю иначе, ибо, с одной стороны, собственные изделия этих эстетиков, слишком отличающиеся топорною работою, резко противоречат законам изящного, определенным с математическою точностию, а с другой стороны, законы изящного никогда не могут отличаться математическою точностию, потому что они основываются на чувстве, и у кого нет приемлемости изящного, для того всегда кажутся незаконными. И притом, из чего должны выводиться законы изящного, как не из изящных созданий? А много ли у нас их, этих изящных созданий? Нет, пусть каждый толкует по-своему об условиях творчества и подкрепляет их фактами, это самый лучший способ развивать теорию изящного. Цель русского критика должна состоять не столько в том, чтобы расширить круг понятий человечества об изящном, сколько в том, чтобы распространять в своем отечестве уже известные, _оседлые_ понятия об этом предмете. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего нового. Это новое не так легко и часто, как обыкновенно думают: оно едва приметными атомами налипает на глыбы старого. Самое старое будет у вас ново, если вы человек с мнением и глубоко убеждены в том, что говорите: ваша индивидуальность и ваш способ выражения и самому вашему _старому_ должны придать характер новости.
Итак, по моему мнению, первый и главный вопрос, предстоящий для разрешения критики, есть - _точно ли это произведение изящно, точно ли этот автор поэт_? Из решения этого вопроса сами собою вытекают ответы о характере и важности сочинения.
Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества, в душе творящей, есть великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия; творчество бесцельно с целию, бессознательно с сознанием, свободно с зависимостью: вот основные его законы. Они будут очень ясны, когда выведутся из акта творчества.
Художник чувствует потребность творить. Эта потребность приходит к нему вдруг, нежданно, без спросу и совершенно независимо от его воли, ибо он не может назначить ни дня, ни часа, ни минуты для своей творческой деятельности: вот свобода творчества, вот его независимость от лица творящего! Потребность творить приводит за собою идею, которая залегает в душу художника, овладевает ею, тяготит ее. Эта идея может быть одною из общих человеческих идей, давно уже известных; но художник берет ее не по выбору, но невольно, берет ее не как предмет ума созерцающего, но воспринимает ее в себя своим чувством, обладаемый трепетным предчувствием ее глубокого, таинственного смысла. Это действие прекрасно выражается непереводимым французским словом "concevoir". Художник чувствует в себе присутствие воспринятой (concue) им идеи, но, так сказать, не видит ее ясно и томится желанием сделать ее осязаемою для себя и других: вот первый акт творчества. Положим, что эта идея есть идея ревности, и будем следить за ее развитием в душе поэта. Заботливо и томительно носит он ее в сокровенном святилище своего чувства, как носит мать младенца в своей утробе; постепенно эта идея проясняется перед его глазами, облекается в живые образы, переходит в идеалы, и ему, как бы в тумане, видится пламенный африканец Отелло, с его челом смуглым и изрытым морщинами, слышатся его дикие вопли любви, ненависти, отчаяния и мщения, видятся пленительные черты кроткой, любящей Дездемоны, слышатся ее тщетные мольбы и стоны среди глухой полуночи. Эти образы, эти идеалы, в свою очередь, вынашиваются, зреют, выясняются постепенно; наконец, поэт уже видит их, говорит с ними, знает их речь, движения, манеры, походку, черты лица, видит.их во весь рост, со всех сторон, видит обоими глазами и так ясно, как бы наяву, на самом деле, видит их прежде, нежели его перо дало им формы, точно так же, как Рафаэль видел перед собою небесный, нерукотворенный образ Мадонны прежде, нежели его кисть приковала этот образ к полотну, точно так же, как Моцарт, Бетховен, Гайдн слышали вызванные ими из души дивные звуки прежде, нежели их перо приковало эти звуки к бумаге. Вот второй акт творчества. Потом поэт дает своему созданию видимые, доступные для всех формы: это третий и последний акт творчества. Он не так важен, ибо есть следствие двух первых.