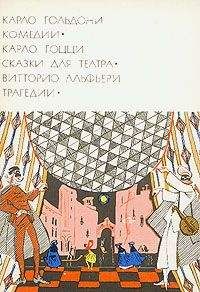Александр Грин (Гриневский) - Серый автомобиль
Говоря это, я не видел ее. Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятие! Ее сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному, лесистому пульсу, – к слезам и радости, восторгу и потрясению, – наконец оно могло полюбить меня, сгоревшего в огне удара и ставшего смеющимся, как ребенок, – и оно ушло! Уверен, что она не хотела вспоминать Глен-Арроль. Правда, в том городишке на нее смотрели лишь уродливые подобия людей, но все-таки…
Сделав усилие, я приподнялся и сел. Моя голова не кружилась, но было такое ощущение, что она недостаточно поднята, – что она может упасть. Я сделал попытку подогнуть ноги, желая тем облегчить дальнейшее движение, и успел в этом… Наконец, я встал, хватаясь за стену, и двинулся. Мне хотелось домой, чтобы успокоиться и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии более тяжелом, чем был. Я побрел, держась за неровные камни трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться.
Пока я шел, сумерки (уже стемнело), распространяясь безвыходной тенью, сменились того рода неизъяснимо волнующим освещением, какое дает луна при переходе дневного света к магическому, призрачному мраку. Пройдя трещину, я увидел очарованный лог ущелья в блеске чистого месяца; дно, усеянное камнями, круглые тени которых казались черными козырьками белых фуражек, – было как ложе гигантской реки, исчезнувшей навсегда. Лошади исчезли. – Восковая взяла мою лошадь, думая, без сомнения, что я умер. Я не верил ее обещанию прислать за мной, скорее мне могли подослать убийц.
Я потрогал платок, затем снял его. Легкий жар, боль и ощущение стянутости кожи все еще были там, куда ударила пуля, но кровь уже не текла. Заподозрив, что пропитанный кровью платок может что-то сказать, я рассмотрел на свет метку. Это были не ее инициалы. Я увидел знаки, неизвестные алфавитам нашей планеты, – и понял, что никогда не смогу узнать, какая природа существа, употребляющего подобные начертания.
– Коррида! – закричал я, – Коррида! Коррида Эль-Бассо! Я люблю, люблю, люблю тебя, безумная в холодном сверкании своем, недоступная, ибо не жввая, – нет, тысячу раз нет! Я хотел дать тебе немного жизни своего сердца! Ты выстрелила не в меня, – в жизнь, ей ты нанесла рану! Вернись!
И эхо, наметив «рри» из ее имени, упорно рокотало где-то за спиной высоких камней: звуки, напоминающие отлетающий треск мотора. Меня не оставляло воспоминание о Глен-Арроле, где я в первый раз увидел ее. Да, – там, на возвышении, в белом широком ящике под стеклом лежала она, вытянув и скрестив ноги, под газом, среди пыльных цветов. Ее ресницы вздрагивали и опускались; легкая, как лепестки, грудь дышала с тихим и живым выражением. Чудилось, вот откроются эти разливающие улыбку глаза; стан изогнется в лукавой миловидности трепетного движения, и, поднявшись, скажет она великое слово, какое заключено в молчании. Теперь, с молчаливого попущения некоторых, она – среди нас, обещая так много и убивая так верно, так медленно, так безнадежно.
Томясь, вздрагивая и шатаясь, прошел я ущелье и заметил это, только когда прошел. Среди зеленого серебристого моря холмов вилось несколько троп; одна из них была круче, и я скатился по ней к лежащему ниже шоссе. Здесь, несколько в стороне, стоял дом, о котором можно только сказать стихами Грювда: «Он был беден и спал». Перешагнув низкую каменную ограду, я высмотрел, что окно не прикрыто, и сунул за стекло свой выигрыш, что-то опрокинув этим движением. Кто жил здесь? Какую силу разбужу я наутро ненужным мне подарком моим? Я знаю только, что на земле надо оставлять крупные следы; малый след скоро зарастает травой. Наутро будет крик, шум, споры и изумление, трясущиеся поджилки, вопли, может быть заболевание от восторга, – что до того? – это жизнь, ее судорога, гримаса, вой и улыбка, – всякая жизнь хороша.
Луна взошла выше; ее круглый скелет свел глаза вниз, выбелив до горизонта шоссе. Шоссе в том месте лежало растянутым римским V, – столь растянутым, что оно напоминало скорее середину двойного изгиба лука. Стоя на возвышении дороги, я видел, как противоположное далекое возвышение пересекалось темной чертой. Там возникла и стала расти точка; она увеличивалась, как расплывающееся по бумаге чернильное пятно; пятно сползало к центру вогнутости с волнующей меня быстротой. Некоторое время я шел навстречу явлению, однако оно быстро остановило меня. Я не ошибся – серый автомобиль уже поднимался навстречу мне с той неприятной легкостью автомата, какая уничтожает обычное представление об усилии. Свернув к кустам, я притаился в их сырости; теперь меж мной и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей, – мог сосчитать их. Их было четверо и тот самый шофер в очках, которого я видел вчера. Они осматривались; один что-то сказал другому, когда машина пронесла рыкающий треск свой мимо меня.
Все было для меня ясно теперь. Это началась охота, месть может быть, низменная и ужасная. Как напечатанные, стояли в воздухе те буквы и цифры, какие увидел я, изнемогая от ярости, и эти буквы были «С. С.», цифры те были «77—7». Воистину, я был близок к безумию. Трясясь, как будто я уже был схвачен, я искал помраченными движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой; я спотыкался в кустах, но идти не мог. Ямы и корни так тесно сплелись между собой, что я шел, все время словно проваливаясь среди груд хвороста; сухой терн цапал за платье. Кроме того, я шел с шумом, опасным для меня в смысле погони: иные ямы были так глубоки, что я падал с болезненным сотрясением во всем теле.
Остановясь и отдышавшись, я вновь приблизился к шоссе и выглянул. Дорога была пуста. Ни слева, ни справа не доносилось ни малейшего шума; поэтому, зная, что всегда могу скрыться в кусты, я вышел на шоссе с целью пробежать как можно быстрее возможно большее расстояние.
Итак, я побежал. Некогда я бегал так хорошо, что выигрывал в состязаниях. Искусство бегать не изменило мне и теперь, – дорога правильными толчками мчалась подо мной взад; быстрое движение воздуха охлаждало разгоряченное лицо. Между тем я очень устал, но я не позволял утомлению осилить себя.
Из этого состояния меня вывела выбоина, – небольшая черная яма, приметив которую впереди, я с изумлением установил, что не могу достигнуть ее с той скоростью, какую принял мой бег. Будучи невдалеке, она приближалась так медленно, как если бы обладала способностью произвольно увеличивать расстояние. И тогда, с тоской оглянувшись, я понял, что не бегу, а иду, еле волоча ноги; довольно было этого обратного толчка – я сел, но не мог даже сидеть; склонясь на руки, лицом в сторону ущелья, услышал я по отзвукам отдаленной дрожи земли, что погоня вернулась. Не прошло двух минут, как серый автомобиль начал налетать издали, – ко мне, готовому принять последний удар.
Я чувствовал, что бессилен пошевелиться. Я был так исступленно, бесконечно слаб, что не ощущал даже страха. Страх мог спокойно сидеть на моей шее сколько хотел, без всякой надежды вызвать малейшее искажение лица и души. Я был неподвижен, распластан, был как сама дорога. Твердой воображенной улыбкой встречал я приближение свистящих колес. Смерть – вместо солнечной, живой пропасти ликующего бессмертия – уже тронула мое лицо светлой косой луча, протянутого наползающим фонарем, – как вдруг эта железная кошка, несущаяся наперерез моего тела, застукала глухим громом, свернула и остановилась. Из нее выбежали четверо, подняли меня и перенесли на сиденье. Лишь двинув рукой, я тотчас сполз с него, перестав видеть, почти перестав слышать, – казалось мне, что глубоко под землей рвут толстый брезент.
11
Я очнулся в высокой небольшой комнате, с подозрительной тишиной вокруг и с глухой дверью. Сам я лежал на кровати, имея слева от себя небольшой столик, на нем стояли цветы – чрезвычайно искусная подделка: их лепестки (я их нюхал и трогал) обладали точь-в-точь таким же влажным холодком и такой же скользкой мягкостью, как настоящие, – они даже пахли, как настоящие. Дотронувшись до головы, я почувствовал, что она забинтована. Под потолком опускала круглую тень зеленая лампа. Себя же я чувствовал довольно сильным, чтобы говорить и требовать объяснения по поводу моего плена. Увидев провод звонка, я нажал кнопку.
Дверь открылась, и появился человек, которого я видел, несомненно, первый раз в жизни. Он был плотен и прям, с решительным, квадратным лицом и неприятно ясным взглядом, через очки. Его покровительственная улыбка, очевидно, относилась ко мне, так как моя беспомощность и моя слабость были ему приятны.
– Кто бы вы ни были, – сказал я, – ваша обязанность немедленно объявить мне, где я нахожусь.
– Вы в квартире доктора Эмерсона, – сказал он, – я – Эмерсон. Лучше ли вам теперь?
– Меня похитили, – ответил я таким тоном, чтобы было ясно мое желание прежде всего знать, что произошло за время беспамятства. – Кто вы – друг или враг? Зачем я приведен сюда?