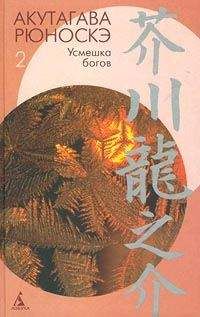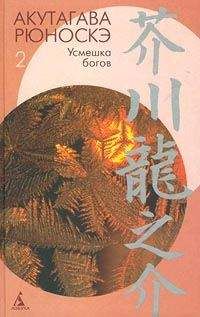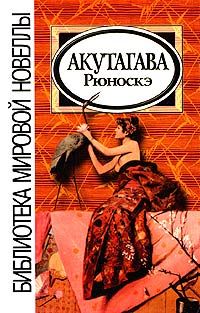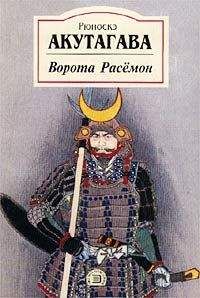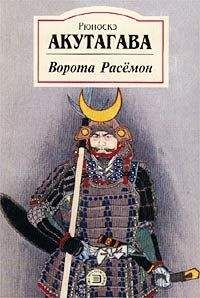Акутагава Рюноскэ - Новеллы
Слуга, разумеется, не понимал, почему старуха выдергивает волосы у трупа. Следовательно, рассуждая логично, он не мог знать, добро это или зло. Но для слуги недопустимым злом было уже одно то, что в дождливую ночь в башне ворот Расёмон выдирают волосы у трупа. Разумеется, он совершенно забыл о том, что еще недавно сам подумывал сделаться вором.
И вот, напружинив ноги, слуга одним скачком бросился с лестницы внутрь. И, взявшись за рукоятку меча, большими шагами подошел к старухе. Что старуха испугалась, нечего и говорить.
Как только ее взгляд упал на слугу, старуха вскочила, точно ею выстрелили из пращи.
— Стой! Куда? — рявкнул слуга, заступая ей дорогу, когда старуха, спотыкаясь о трупы, растерянно кинулась было бежать. Все же она попыталась оттолкнуть его. Слуга, не пуская, толкнул ее обратно. Некоторое время они в полном молчании боролись среди трупов, вцепившись друг в друга. Но кто одолеет, было ясно с самого начала. В конце концов слуга скрутил старухе руки и повалил ее на пол. Руки ее были кости да кожа, точь-в-точь куриные лапки.
— Что ты делала? Говори. Если не скажешь, пожалеешь!
И, оттолкнув старуху, слуга выхватил меч и поднес блестящий клинок к ее глазам. Но старуха молчала. С трясущимися руками, задыхаясь, раскрыв глаза так, что они чуть не вылезали из орбит, она упорно, как немая, молчала. Только тогда слуга отчетливо осознал, что жизнь этой старухи всецело в его власти. Это сознание как-то незаметно охладило пылавшую в нем злобу. Остались только обычные после успешного завершения любого дела чувства покоя и удовлетворения. Глядя на старуху сверху вниз, он уже мягче сказал:
— Я не служу в городской страже. Я путник и только что проходил под воротами. Поэтому я не собираюсь тебя вязать. Скажи мне только, что ты делала сейчас здесь, в башне?
Старуха еще шире раскрыла и без того широко раскрытые глаза с покрасневшими веками и уставилась в лицо слуги. Уставилась острым взглядом хищной птицы. Потом, как будто жуя что-то, зашевелила сморщенными губами, из-за морщин почти слившимися с носом. Было видно, как на ее тонкой шее двигается острый кадык. И из ее горла до ушей слуги донесся прерывистый, глухой голос, похожий на карканье вороны:
— Рвала волосы… рвала волосы… это на парики.
Слуга был разочарован тем, что ответ старухи вопреки ожиданиям оказался самым обыденным. И вместе с разочарованием в его сердце вернулась прежняя злоба, смешанная с легким презрением. Старуха, по-видимому, заметила это. Все еще держа в руке длинные волосы, выдернутые из головы трупа, она заквакала:
— Оно правда, рвать волосы у мертвецов, может, дело худое. Да ведь эти мертвецы, что тут лежат, все того стоят. Вот хоть та женщина, у которой я сейчас вырывала волосы: она резала змей на полоски в четыре сун{11} и сушила, а потом продавала дворцовой страже, выдавая их за сушеную рыбу… Тем и жила. Не помри она от чумы, и теперь бы тем самым жила. А говорили, что сушеная рыба, которой она торгует, вкусная, и стражники всегда покупали ее себе на закуску. Только я не думаю, что она делала худо. Без этого она умерла бы с голоду, значит, делала поневоле. Вот потому я не думаю, что и я делаю худо, нет! Ведь и я тоже без этого умру с голоду, значит, и я делаю поневоле. И эта женщина, — она ведь хорошо знала, что значит делать поневоле, — она бы, наверно, меня не осудила.
Вот что рассказала старуха.
Слуга холодно слушал ее рассказ, вложив меч в ножны и придерживая левой рукой рукоятку. Разумеется, правой рукой он при этом потрагивал алевший на щеке чирей. Однако, пока он слушал, в душе у него рождалось мужество. То самое мужество, которого ему не хватало раньше внизу, на ступенях ворот. И направлено оно было в сторону, прямо противоположную тому воодушевлению, с которым недавно, поднявшись в башню, он схватил старуху. Он больше не колебался, умереть ли ему с голоду или сделаться вором; мало того, в эту минуту, в сущности, он был так далек от мысли о голодной смерти, что она просто не могла прийти ему в голову.
— Вот, значит, как? — насмешливо сказал он, когда рассказ старухи пришел к концу. Потом шагнул вперед и вдруг, отняв руку от чирея, схватил старуху за ворот и зарычал: — Ну, так не пеняй, если я тебя оберу! И мне тоже иначе придется умереть с голоду.
Слуга сорвал с нее кимоно. Затем грубо пихнул ногой старуху, цеплявшуюся за подол его платья, прямо на трупы. До лестницы было шагов пять. Сунув под мышку сорванное со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, слуга в мгновение ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму.
Старуха, сначала лежавшая неподвижно, как мертвая, поднялась с трупов, голая, вскоре после его ухода. Не то ворча, не то плача, она при свете еще горевшей лучины доползла до выхода. Нагнувшись так, что короткие седые волосы спутанными космами свесились ей на лоб, она посмотрела вниз. Вокруг ворот — только черная глубокая ночь.
Слуга с тех пор исчез бесследно.
Сентябрь 1915 г.
Маска хёттоко
Перевод Л. Ермаковой
{12}
На мосту Адзумабаси толпится народ. Время от времени подходит полицейский и уговаривает всех разойтись, но толпа тут же собирается снова. Все ждут, когда под мостом пройдут лодки, направляющиеся на праздник цветущей вишни{13}.
По одной и по две лодки плывут вверх по реке, уже поднимающейся от прилива. Над многими натянута парусина, к которой прикреплены свешивающиеся донизу белые в красную полосу занавески. На носу водружены флаги и старые вымпелы. Все, сидящие в лодках, видимо, слегка навеселе. Через занавески можно разглядеть людей, которые, обмотав голову полотенцем на манер женщин из Ёсивара или торговок рисом, играют в кэн{14}, выкрикивая: «Раз, два!» Кто-то пытается петь, качая в такт головой. Сверху, с моста, все это кажется очень забавным. Когда мимо проплывают лодки с музыкантами, толпа на мосту разражается громкими возгласами. Кто-то кричит даже: «Вот дурачье!»
С моста река похожа на оловянную пластинку, поблескивающую на солнце, временами на волнах от проходящих катеров вспыхивает ослепительная позолота. И, словно укусы вшей, вонзаются в эту гладкую водную поверхность бодрый стук барабанов, звуки флейты и сямисэна{15}. От кирпичных стен пивоваренного завода Саппоро далеко за насыпь тянется что-то закопченное, грязно-белое — это и есть вишни, которые сейчас в цвету. У пристани Кототои стоит множество японских и европейских лодок. Шлюпочный сарай университета заслоняет их от солнца, и отсюда видно только, как движется что-то грязное и темное.
Но вот из-под моста вынырнула еще одна лодка. Как и все другие, эта четверка направляется на праздник цветущей вишни. Укрепив на лодке красно-белые занавески с полосатым вымпелом таких же цветов, гребцы, повязавшие голову полотенцами с нарисованными на них алыми цветками вишни, поочередно гребут веслами и отталкиваются шестом. И все же лодка идет не очень быстро. В тени занавесок сидит с десяток человек. Пока лодка не вошла под мост, они наигрывали на двух сямисэнах не то «Весна в сливовом цвету», не то еще что-то, а когда песня кончилась, оркестр заиграл праздничную музыку. Зеваки на мосту снова разражаются восклицаниями. Слышится плач ребенка, придавленного в сумятице. Потом пронзительный женский голос, выкрикивающий: «Эй, смотрите! Вон, танцует!» На палубе мужчина невысокого роста в шутовской маске хёттоко как-то нелепо прыгает под музыку.
Он еще раньше снял верхнюю одежду из ткани, какие делают в Титибу, и выставил на обозрение яркую, в узорах нижнюю рубашку с узкими рукавами. Что он сильно пьян, ясно уже потому, что воротник его с черным обшлагом небрежно распахнут, темно-синий пояс развязался и болтается сзади. Танцует он, конечно, тоже по-сумасшедшему. Совершает какие-то неуклюжие телодвижения и без конца размахивает руками в подражание священным танцам. Но и это выглядит так, будто, сильно опьянев, он не владеет своим телом, и иногда кажется, что он потерял равновесие и просто двигает руками и ногами, чтобы не свалиться в воду.
Это было еще смешней, и на мосту оживленно загалдели. И, смеясь, все обменивались критическими замечаниями:
— Вот это походка!
— Развеселился как! И откуда это чучело?!
— Потеха! Ой, смотрите, спотыкается!
— Лучше б он без маски танцевал!
И все в таком духе.
Тем временем, — вино, что ли, подействовало сильнее, — движения танцора становились все более странными. Голова его с завязанным у подбородка праздничным полотенцем качалась, как стрелка испорченного метронома, чуть не свешиваясь за борт лодки. Лодочник даже забеспокоился и дважды его окликнул, но тот, казалось, и не слышал.
И вдруг боковая волна от проходящего катера высоко подбросила лодку. В этот момент человечек в маске, будто от удара, подался на три шага вперед, описал последний большой круг и, остановившись, как прекративший вращение волчок, упал навзничь на дно лодки, задрав ноги в трикотажных штанах.