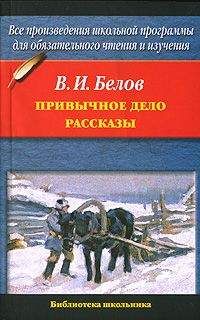В. Белов - ДУША БЕССМЕРТНА
Люба все время думала о темнобровом сероглазом заболотском парне. По многу раз на день она глядела в липинскую сторону. Там, где терялась в лесу липинская дорога, стояли два стога и темнела большая островерхая елка. Прежде чем посмотреть на эти стога и елку, Люба оглядывала другие места зубчатого лесного кольца. Оно было однообразным, тянулось далеко и одинаково, пока взгляд не встречался с теми стогами. Тогда Любу снова охватывало щемящее волненье.
Вскоре пошли дожди, и стоги из темно-зеленых превратились в желто-серые, зато ель еще яснее стала выделяться своим сизозеленым конусом.
Волнение охватывало Любу и в то время, когда кто-нибудь при ней упоминал в разговоре Липино и Заболотье, но особенно нетерпеливо билось сердце при виде всего того, во что была одета Люба в тот вечер. Черная юбка и крепдешиновая кофточка лежали в комоде, и Люба часто без нужды вынимала и гладила их. Ходить в них было некуда.
В Липине больше гуляний не собиралось, а в Заболотье не ходили даже ребята. На своих же гуляньях Любе было и раньше не больно весело, а теперь и вовсе стало скучно.
Зато Агнейка бегала каждую субботу, Африха «рекрутился», собирался на службу. Оба они давно забыли про липинскую гулянку. Но даже глуповатый Афришка казался Любе при встречах милым и хорошим, вызывая в сердце то же щемящее волнение, особенно когда закуривал. Ведь они вместе с Заболотским прикуривали тогда от одной спички! И, конечно, они знали друг друга.
Однажды Люба проснулась под утро от радостной горечи хорошего сна. Ей вновь снился тот большой праздник, вновь играла и звала к себе непонятная волнующая музыка, и Люба шла среди большой толпы навстречу серым заболотским глазам, шла, не стыдясь, она видела, знала, что это он, и вдруг проснулась и через минуту беззвучно заплакала. Это было через три месяца после липинского гулянья, когда речка от дождей стала по-весеннему полноводна, по-весеннему же, хотя и не очень рьяно, токовали полевики, и дым из труб шарахался на росу и на грядки.
Была та пора, когда по оголенным лесам свистят рябчики, замирают в еловых лапах сонные вздохи ветра, тихая мгла белеет на всех горизонтах и начинается царственный отдых осенней земли.
* * *
Бригадир еще со вчерашнего вечера направил Любу с Агнейкой копать картошку. К резиновым ботам и к лопатам налипала грязь, пальцы сводило от мокрой стужи. Агнейка, с выбившейся из-под платка косой, сильно вдавливала лопату в землю и выворачивала картофельный куст. Клубни были мелкие, с ржавыми пятнами картофельной коросты. Люба кидала их в корзину и часто разгибала спину. К обеду едва накопали около трех кулевых мешков.
Агнейка присела отдохнуть на мешке.
— Опять Афришки долго нет.
Люба взглянула на подружку.
— А что он тебе, Афришка-то?
— Да так. Он картошку должен возить…
— А вон он идет. На помине, как сноп на овине. Опять куда-то ходил.
Из-за гумна и в самом деле вышел Африха, шелестя дождевиком, сел рядом с Агнейкой.
— Все, девки, — сказал он весело, — забрили, двадцатого в отправку.
Агнейка сначала не поверила, сказала «не мели», потом замолчала, глядя на Афришку уже другими глазами.
— Правда, Африш?
— Ну, что я вам врать буду? Вместе с Костюхой из Заболотья в сельсовет вызывали.
У Любы покраснели щеки и часто заколотилось сердце.
— Из Заболотья? — тихо спросила она. — Какой это из Заболотья.
— Да помнишь, небольшой такой, в Липине еще мы вместе стояли. Мы с ним с одного года. Вместе будем отправляться. Ко мне придет он на отвальную…
— Люб, ты чего, Люб? — Агнейка кинулась к Любе.
…Ничего не видя и не слыша, Люба напрямую без тропинки
пошла к деревне. Еще больше все в ней перемешалось, когда она взглянула на приколотый у зеркала численник: на листочке была цифра семнадцать.
* * *
Все эти три дня слились для нее во что-то одно, короткое и счастливое, тревожное и радостное. Каждый день приходила Агнейка. Она перебирала Любины платья и, давно обо всем догадавшись, сообщала новости: Африхина мать заварила пиво и вымыла пол, сам он зарезал к двадцатому ярушку, и на отвальную вместе с Костей придут еще двое липинских.
Накануне Люба почти всю ночь не смыкала глаз.
С утра мать ушла на болото за клюквой, и Люба весь день была одна, потом прибежала Агнейка. Она мигом нащепала лучинок, развела духовой утюг.
— Ой, Люба, куда-то у меня голубая лента девалась, весь день ищу, ищу, не пила не ела, а толку нет.
— Да вот же, у меня она, голубая.
Агнейка прискочила от радости и быстро поцеловала Любину щеку. Люба, опустив большие ресницы, медленно заплетала косу. Агнейка подошла к ней, нежно обхватила ее плечи своими белыми от локтей до плеч руками, прошептала на самое ухо:
— Ой, Любушка… Афришка говорит, чтобы я села за столом рядом с ним. А я говорю, если Люба будет с другой стороны, так сяду, а то ни за что не осмелиться… Ну-ко, вся родня будет глядеть. А ну, подумаешь, пусть глядят! Смотри, кто-то идет из отвода.
Агнейка кинулась к окну.
— К Афришке идет. Люба! Смотри!
Но Люба в это время вдруг закрыла лицо руками и встала у шкафа, отвернувшись, как неживая. Она еще раньше Агнейки увидела его. Большим, еще неизведанным счастьем, как горячим летним ветром, опахнуло ее всю до последней кровинки.
* * *
В большой Африхиной летней половине уже собиралась молодежь, когда в зимней половине усаживалась за стол родня и призывники, которые вместе с Африхой уходили в армию. Налили по стопке, но все сидели, пока Африха бегал за Агнейкой и Любой. Он, в новом костюме, уже остриженный и непохожий на себя, вбежал в дверь к Любе:
— Ну чего вы прохлаждаетесь? Одних вас и нету. Люб, дай-ко тарелок и ложек, у нас недостает.
Агнейка завернула тарелки и ложки в полотенце, и все трое вышли из дома. Поднимаясь по ступенькам Африхиного крылечка, Люба услышала застольный говор, услышала гармонь, что играла в летней половине.
Они с Агнейкой вошли в дом вслед за Африхой.
— Во, во! Славутницы наши, честь и место! — радостно зашумел из-за стола Африхин отец.
Он уже был подвыпивший, сразу все задвигались, и Люба, ничего не помня, села за стол. Пока все чокались и шумно переговаривались, она один раз взглянула на Костю, он тоже в это время смотрел на нее, улыбнулся. Люба покраснела, поставила рюмку с красным вином на стол и вся затаилась от счастья, от большой своей радости и волнения.
* * *
В Красну Армию, ребятушки,
Дорога широка.
Вы гуляйте, девки-матушки,
Годов до сорока, —
пел Африха, останавливаясь посередине летней избы, и гармонист вновь широко раздвигал мехи гармони, и вновь шел Африха по полу, останавливаясь и чуть притопывая, снова пел:
Не обидно ли тому,
У кого пляшу в дому.
Дрыгай, пол и потолок,
Пляшу последний вечерок.
Переплясал Африха уже со всеми: с отцом, с Агнейкой, с липинскими ребятами. Только Костя не выходил на круг. Он стоял у косяка, не снимая кепки и стыдясь остриженных волос.
Народу набралось много. Сквозь звуки гармони и частушки слышались разговоры и смех, и все это сливалось в один праздничный гул, и кто-то в этом гуле уже заводил столбушку, потом другую.
В кути, за печью, за переборкой в темноте поставлены были скамейки и табуретки, занавешенные одеялами. Люба видела, как Африха с Агнейкой завели еще одну столбушку, в самом темном и тихом месте. Они пошушукались для виду, и вскоре Африха вышел на свет, подошел к Косте, шепнул ему что-то на ухо. Костя боком прошел в темноту. Люба знала, что сейчас, через недолго выйдет Агнейка и велит идти туда, к нему, и тогда будет то счастье, которого так долго ждала Люба, о каком думала всегда и жила для него.
Минут через пять вышла Агнейка. Ласково поглядела на подружку и глазами показала на то место, где ждал Костя. Люба, как во сне, прошла туда, присела на стул. Костя нежно и смело поймал ее горячую руку.
Где-то на свету снова плясал Афришка:
Некрута-некрутики,
Ломали в поле прутики,
Ломали да и ставили,
Сударушек оставили.
Наутро выпал снег. Его первородная чистота была похожа на Любину любовь: ни одного пятнышка, ни одной соринки не заметишь на белой крыше Африхиного дома, на улице и везде, куда ни посмотришь.
И вот по этому снегу зачернели вдруг две глубокие колеи от колес. Они протянулись от Африхиного крыльца в отвод, потом в поле и затерялись в холодных притихших окрестностях, затерялись на три долгих года.
Если бы только на три!
Агнейка и Люба стояли на крыльце и смотрели в поле. Прижавшись друг к дружке, они молчали, думали об одном и том же.