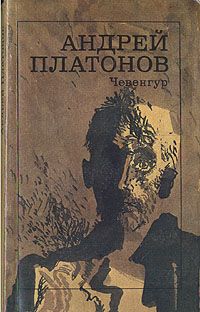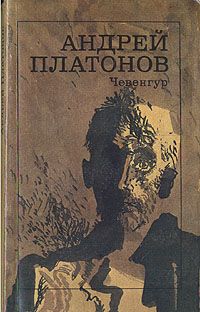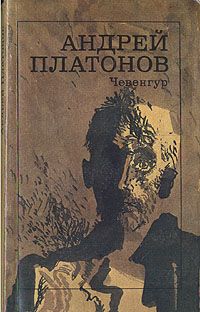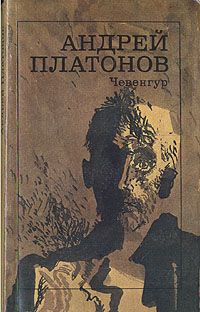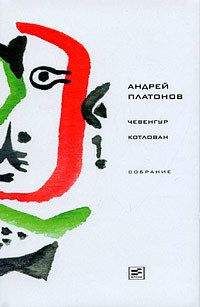Андрей Платонов - Чевенгур
— Я не мог уехать, — сказал он. — Я о вас соскучился в самом себе.
Симон по-прежнему улыбался, но сейчас более грустно, чем раньше. Он уже видел, что здесь ему не предстоит счастья, а позади остался гулкий номер гостиницы и в нем книга учета потерянных товарищей.
— Берите свою простыню у меня в пальто, — сказал Сербинов. — Она уже просохла, и вашего запаха в ней нет. Извините, что я на ней сегодня спал.
Софья Александровна понимала, что Сербинов утомлен, и молча, не рассчитывая, что она по себе может интересовать гостя, собирала ему угощение из своего ужина. Сербинов съел ее ужин как должное и, наевшись, еще больше почувствовал горе своего одиночества. Сил у него было много, но они не имели никакого направления и напрасно сдавливали ему сердце.
— Что же вы не уехали? — спросила Софья Александровна. — Вам со вчерашнего дня стало скучнее?
— Я поеду бурьян в одной губернии искать. Раньше социализму угрожала вошь, теперь — бурьян. Поедемте со мной!
— Нет, — отказалась Софья Александровна. — Я ехать никуда не могу.
Сербинов хотел было улечься здесь спать, больше нигде он не проспал бы в таком спокойствии. Он попробовал свою спину и левый бок — уже несколько месяцев, как что-то, ранее бывшее мягким и терпеливым, теперь превращалось в твердое и болящее: вероятно, это отживали хрящи молодости, мертвея в постоянную кость. Сегодня утром скончалась его забытая мать. Симон даже не знал, где она проживает, где-то в предпоследнем доме Москвы, откуда уже начинается уезд и волость. В тот час, когда Сербинов с тщательностью чистил зубы, освобождая рот от нагноений для поцелуев, или когда он ел ветчину, его мать умерла. Теперь Симон не знал, для чего ему жить. Тот последний человек, для которого смерть самого Сербинова осталась бы навсегда безутешной, этот человек скончался. Среди оставшихся живых у Симона не было никого, подобного матери: он мог ее не любить, он забыл ее адрес, но жил потому, что мать некогда и надолго загородила его своей нуждой в нем от других многих людей, которым Симон был вовсе не нужен. Теперь эта изгородь упала, где-то на краю Москвы, почти в провинции, лежала в гробу старушка, сберегшая сына вместо себя, и в свежих досках ее гроба было больше живого, чем в ее засохшем теле. И Сербинов почувствовал свободу и легкость своей оставшейся жизни — его гибель ни у кого теперь не вызовет жалобы, после его смерти никто не умрет от горя, как обещала однажды и исполнила бы, если бы пережила Симона, его мать. Оказывается, Симон жил оттого, что чувствовал жалость матери к себе и хранил ее покой своей целостью на свете. Она же, его мать, служила Симону защитой, обманом ото всех чужих людей, он признавал мир благодаря матери сочувствующим себе. И вот теперь мать исчезла, и без нее все обнажилось. Жить стало необязательно, раз ни в ком из живущих не было по отношению к Симону смертельной необходимости. И Сербинов пришел к Софье Александровне, чтобы побыть с женщиной — мать его тоже была женщиной.
Посидев, Сербинов увидел, что Софья Александровна хочет спать, и попрощался с нею. О смерти матери Сербинов ничего не сказал. Он хотел это использовать как основательную причину для нового посещения Софьи Александровны. Домой Сербинов шел верст шесть, два раза над ним начинал капать редкий дождь и кончался. На одном бульваре Сербинов почувствовал, что сейчас заплачет; в ожидании слез он сел на скамейку, наклонился и приспособил лицо, но заплакать не мог. Заплакал он позже, в ночной пивной, где играла музыка и танцевали, но не от матери, а от множества недосягаемых для Сербинова артисток и людей.
И в третий раз Сербинов пришел к Софье Александровне в воскресенье. Она еще спала, и Симон ожидал в коридоре, пока она оденется.
Сербинов сказал через дверь, что вчера его мать закопали и он зашел за Софьей Александровной пойти вместе на кладбище, чтобы посмотреть, где его мать будет находиться до самого конца света. Тогда Софья Александровна, неодетая, открыла ему свою комнату и, не умываясь, пошла с Сербиновым на кладбище. Там уже начиналась осень, на могилы похороненных людей падали умершие листья. Среди высоких трав и древесных кущ стояли притаившиеся кресты вечной памяти, похожие на людей, тщетно раскинувших руки для объятий погибших. На ближнем к дорожке кресте была надпись чьей-то беззвучной жалобы:
Я живу и плачу, А она умерла и молчит.
Могила матери Симона, занесенная свежим земным прахом, лежала в тесноте других могил и в уединении среди их ветхих бугров. Сербинов и Софья Александровна находились под старым деревом; его листья равномерно шумели в потоке постоянного высокого ветра, словно время стало слышным на своем ходу и уносилось над ними. Вдалеке изредка проходили люди, проведывая мертвых родственников, а вблизи никого не было. Рядом с Симоном ровно дышала Софья Александровна, она глядела на могилу и не понимала смерти, у нее не было кому умирать. Она хотела почувствовать горе и пожалеть Сербинова, но ей было только немного скучно от долгого шума влекущегося ветра и вида покинутых крестов. Сербинов стоял перед нею как беспомощный крест, и Софья Александровна не знала, чем ему помочь в его бессмысленной тоске, чтобы ему было лучше.
Сербинов же стоял в страхе перед тысячами могил. В них лежали покойные люди, которые жили потому, что верили в вечную память и сожаление о себе после смерти, но о них забыли — кладбище было безлюдно, кресты замещали тех живых, которые должны приходить сюда, помнить и жалеть. Так будет и с ним, Симоном: последняя, кто ходила бы к нему, мертвому, под крест
— теперь сама лежит в гробу под его ногами.
Сербинов прикоснулся рукой к плечу Софьи Александровны, чтобы она вспомнила его когда-нибудь после разлуки. Софья Александровна ничем не ответила ему. Тогда Симон обнял ее сзади и приложил свою голову к ее шее.
— Здесь нас увидят, — сказала Софья Александровна. — Пойдемте в другое место.
Они сошли на тропинку и пошли в глушь кладбища. Людей здесь было хотя и мало, но они не переводились: встречались какие-то зоркие старушки, из тишины зарослей неожиданно выступали могильщики с лопатами, и звонарь с колокольни наклонился и видел их. Иногда они попадали в более уютные, заглохшие места, и там Сербинов прислонял Софью Александровну к дереву или просто держал почти на весу близ себя, а она нехотя глядела на него, но раздавался кашель или скрежет подножного гравия, и Сербинов вновь уводил Софью Александровну.
Постепенно они обошли кладбище по большому кругу — всюду без пристанища — и возвратились к могиле матери Симона. Они оба уже утомились; Симон чувствовал, как ослабело от ожидания его сердце и как нужно ему отдать свое горе и свое одиночество в другое, дружелюбное тело и, может быть, взять у Софьи Александровны то, что ей драгоценно, чтобы она всегда жалела о своей утрате, скрытой в Сербинове, и поэтому помнила его.
— Зачем вам это надо сейчас? — спросила Софья Александровна. — Давайте лучше говорить.
Они сели на выступавшее из почвы корневище дерева и приложили ноги к могильной насыпи матери. Симон молчал, он не знал, как поделить свое горе с Софьей Александровной, не поделив прежде с нею самого себя: даже имущество в семействе делается общим лишь после взаимной любви супругов; всегда, пока жил Сербинов, он замечал, что обмен кровью и телом вызывает затем обмен прочими житейскими вещами, — наоборот не бывает, потому что лишь дорогое заставляет не жалеть дешевое. Сербинов был согласен и с тем, что так думает лишь его разложившийся ум.
— Что же мне говорить! — сказал он. — Мне сейчас трудно, горе во мне живет как вещество, и наши слова останутся отдельно от него.
Софья Александровна повернула к Симону свое вдруг опечаленное лицо, будто боясь страдания, она или поняла, или ничего не сообразила. Симон угрюмо обнял ее и перенес с твердого корня на мягкий холм материнской могилы, ногами в нижние травы. Он забыл, есть ли на кладбище посторонние люди, или они уже все ушли, а Софья Александровна молча отвернулась от него в комья земли, в которых содержался мелкий прах чужих гробов, вынесенный лопатой из глубины.
Спустя время Сербинов нашел в своих карманных трущобах маленький длинный портрет худой старушки и спрятал его в размягченной могиле, чтоб не вспоминать и не мучиться о матери.
Гопнер в Чевенгуре сделал для Якова Титыча оранжерею: старик уважал невольные цветы, он чувствовал от них тишину своей жизни. Но уже надо всем миром, и над Чевенгуром, светило вечернее, жмурящееся солнце средней осени, и степные цветы Якова Титыча едва пахли от своего слабеющего дыхания. Яков Титыч призывал к себе самого молодого из прочих, тринадцатилетнего Егория, и сидел с ним под стеклянной крышей в кругу аромата. Ему жалко было умирать в Чевенгуре, но уже надо, потому что желудок перестал любить пищу и даже питье обращал в мучительный газ, но не от болезни желал умереть Яков Титыч, а от потери терпения к самому себе: он начал чувствовать свое тело как постороннего, второго человека, с которым он скучает целых шестьдесят лет и на которого Яков Титыч стал иметь теперь неутомимую злобу. Сейчас он глядел в поле, где Пролетарская Сила пахала, а Копенкин ходил за ней вслед, и еще больше хотел забыть себя, скрыться от тоски неотлучного присутствия с одним собой. Он желал стать лошадью, Копенкиным, любым одаренным предметом, лишь бы потерять из ума свою исчувствованную, присохшую коркой раны жизнь. Он пробовал руками Егория, и ему бывало легче, все же мальчик — это лучшая жизнь, и если нельзя ею жить, то можно хотя бы иметь при себе и думать о ней.