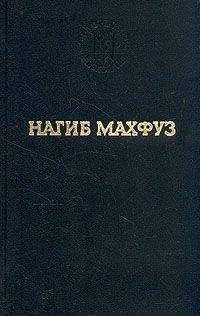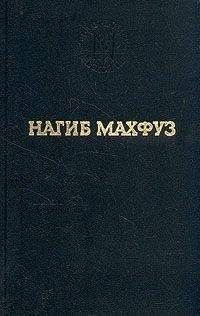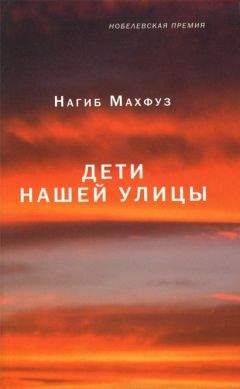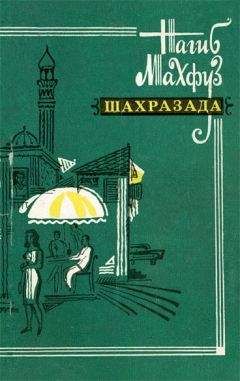Нагиб Махфуз - Предания нашей улицы
— Ты, красавица, очень запустила свой глаз, ведь он был красным еще в тот день, когда я впервые увидел тебя.
— Я промываю его горячей водой, стала оправдываться девушка. — Но я постоянно занята работой и часто забываю это делать.
— Нельзя забывать о своем здоровье, особенно если речь идет о таких прекрасных глазах!
Аватыф смущенно улыбнулась, а Арафа протянул руку к полке и достал кувшин, из которого вытащил маленький сверток, и сказал, указывая на него:
— Отсыпь порошка на тряпицу и подержи над паром, а потом привяжи на ночь к глазу. И делай так до тех пор, пока твой левый глаз не станет таким же красивым, как и правый.
Она взяла пакетик и, вынув из кармана кошелек, вопросительно взглянула на Лрафу, мол, сколько она ему должна. Арафа, смеясь, сказал:
— Ты мне ничего не должна, ведь мы соседи и друзья.
— Но ты же платишь, когда пьешь чай!
— Я плачу не тебе, а твоему отцу. Он человек почтенный, и я хотел бы с ним познакомиться. Мне очень жаль, что ему приходится работать в таком возрасте. Девушка гордо вскинула голову.
— У него хорошее здоровье, и он не желает сидеть дома. Но из-за долгих прожитых лет ему грустно смотреть на то, что происходит сейчас, ведь он еще застал времена Касема.
Арафу заинтересовали ее слова.
— Правда? Он был сподвижником Касема?
— Нет, но он был счастлив в те дни и до сих пор сожалеет, что они прошли.
— Мне бы очень хотелось познакомиться с ним и послушать его рассказы.
— Лучше не вызывай его на эти разговоры, — посоветовала Аватыф. — Пусть он навсегда забудет о тех временах, так ему будет спокойнее. Однажды в винной лавке он выпил с друзьями и, опьянев, стал кричать, требуя вернуть былые времена и порядки. Но, как только он вернулся домой, сразу же явился Сантури и жестоко избил его, отец даже потерял сознание.
Арафа насупился, слушая рассказ девушки, потом, пристально глядя на нее, многозначительно сказал:
— Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока существуют футуввы!
Девушка ответила ему опасливым взглядом, пытаясь понять, что стоит за его словами, но согласилась: — Да, ты прав, никому от них покоя нет. Он помедлил, словно сомневаясь, продолжать или нет, потом сказал:
— Я заметил, как нагло Сантури смотрел на тебя. На лице Аватыф мелькнула улыбка.
— Господь ему судья. Арафа с подозрением спросил:
— Наверное, девушке приятно, если она нравится такому футувве?
— Он уже четырежды женат! — Что ему стоит жениться еще раз? На это девушка решительно заявила:
— Я возненавидела его с тех пор, как он обидел моего отца. И все футуввы таковы, у них нет сердца. Они взимают подати и гордятся этим так, будто совершают благодеяние.
Арафа оживился, услышав такой ответ, и горячо проговорил:
— Правильно, Аватыф! Как хорошо поступил Касем, когда уничтожил всех футувв, однако они появляются вновь, как ячмень на глазу.
— Поэтому-то мой отец и горюет по временам Касема. Арафа небрежно махнул рукой.
— Есть и такие, кто скорбит о днях Габаля и Рифаа, однако прошлое не воротишь.
— Ты говоришь так, — возмутилась Аватыф, — потому что не знал Касема, как знал его отец!
— А ты его знала?
— Мне отец рассказывал!
— А мне мать! Только какая от этого польза? Он так и не избавил нас от футувв. Моя мать сама стала жертвой их разбоя, и даже теперь, после ее смерти, они оскорбляют ее память!
— Правда?!
Лицо Арафы внезапно омрачилось.
— Поэтому-то я и боюсь за тебя, Аватыф. Футуввы угроза всему: и заработку, и чести, и любви, и миру. И скажу тебе откровенно: когда я увидел, как это животное смотрит на тебя, я убедился, что их всех необходимо уничтожить.
— Говорят, еще наш дед завещал нам это, промолвила девушка.
— Где он, наш дед?
— В Большом доме, — просто ответила Аватыф. Тихим голосом и без всякого выражения Арафа сказал:
— Вот так, отец твой рассказывает о Касеме, Касем рассказывал о Габалауи, мы все это слушаем, а видим лишь Кадри, Саадаллу, Аджаджа да Сантури с Юсуфом. Нам нужна сила, чтобы освободиться от них. А в воспоминаниях какой прок?!
Тут Арафа спохватился, что подобные разговоры омрачают его встречу с Аватыф, и полушутя-полусерьезно сказал:
— Нашей улице нужна сила, как мне нужна ты!
Аватыф ответила осуждающим взглядом, но Арафа улыбнулся и, смело глядя ей в глаза и уже не боясь нахмуренных бровей, заговорил:
— Молодая, красивая, добрая и трудолюбивая девушка за работой совершенно забывает о своем глазе, и он воспаляется. Она приходит ко мне за помощью, а оказывается, это я нуждаюсь в помощи.
Девушка поднялась.
— Мне пора уходить.
— Не сердись, пожалуйста, ведь я не сказал тебе ничего нового, ты же наверняка заметила, как я смотрел на тебя из окна. Холостяк вроде меня не может вечно жить один, да и дому его, заваленному всяким рабочим хламом, нужна хозяйка. Зарабатывает он достаточно и должен делить с кем-то свои доходы.
Аватыф направилась к выходу, и Арафа пошел проводить ее. В дверях девушка сказала:
— Будь счастлив!
Арафа стоял не двигаясь и тихим голосом пропел:
О луноликая, наполни чашу мне!
Прекрасней стана твоего нет на земле.
Переполненный счастьем и желанием работать, он вернулся в мастерскую, где застал Ханаша, поглощенного делами.
— Чем ты занят? — спросил Арафа.
Ханаш поставил перед ним бутылку и пояснил:
— Вот, готова и плотно закупорена, но нужно еще испытать ее в пустыне.
Арафа взял бутылку и попробовал, надежно ли пригнана пробка.
— Да, — сказал он, — испытаем ее в пустыне, чтобы никто ничего не увидел.
— Дела наши пошли на лад, и жизнь нам улыбается, так не будем сами ее портить! — с беспокойством заметил Ханаш.
Арафа подумал, что теперь, когда жизнь их устроилась, Ханаш стал дорожить ею, и эта мысль заставила его улыбнуться.
— Моя мать была и твоей матерью, — напомнил он. — Да, но она умоляла тебя не думать о мщении.
— Раньше ты смотрел на дело иначе.
— Пойми, нас убьют прежде, чем мы сумеем отомстить! Арафа снова засмеялся.
— Не скрою от тебя: я уже давно перестал помышлять о мести.
Лицо Ханаша засияло от радости.
— Дай-ка бутылку, я вылью ее содержимое. Но Арафа еще крепче сжал бутылку в руках.
— Нет, сначала мы испытаем ее, чтобы убедиться в ее действии.
Ханаш нахмурился, обиженный, считая, что Арафа просто посмеялся над ним, а Арафа продолжал:
— Я поясню тебе свою мысль, Ханаш. Пойми, я отказываюсь от мести не потому, что подчинился просьбе нашей матери, а потому, что убедился: футуввам надо не мстить, их надо уничтожать!
— И все это из-за любви к девушке? — запальчиво воскликнул Ханаш.
Арафа расхохотался во все горло.
— Любовь к девушке, любовь к жизни… Назови это, как хочешь. Да, прав был Касем!
— При чем тут Касем? Он исполнял волю своего деда.
— Кто знает? На нашей улице рассказывают сказки, а мы в нашей мастерской делаем дело. Но где уверенность в будущем? Завтра может явиться Аджадж и отнять у нас наш хлеб. А если я захочу жениться на Аватыф, на моем пути встанет Сантури со своей дубинкой. И в таком положении находится каждый на нашей улице, даже нищий. Мои тревоги — это тревоги всех живущих на улице, а моя безопасность — это их безопасность. И хотя я не футувва и не избранник Габалауи, я владею чудесными тайнами. Поэтому я сильнее и Габаля, и Рифаа, и Касема, вместе взятых.
С этими словами Арафа замахнулся бутылкой, словно собирался бросить, но вместо этого отдал ее Ханашу, сказав:
— Мы испробуем ее сегодня же ночью! Не хмурься!
Он вышел из мастерской и, усевшись на тахте, стал смотреть в окно, на передвижную кофейню. Снаружи постепенно темнело, а голос Аватыф продолжал призывать желающих выпить кофе или чаю. Девушка избегала смотреть на окно Арафы, а это значило, что он ей не безразличен. Арафа заметил улыбку на ее устах и улыбнулся в ответ. Сердце его наполнилось радостью. Он даже дал себе слово отныне каждое утро тщательно причесывать свои непокорные волосы.
Со стороны Гамалийи послышался топот ног и шум толпы людей, преследовавших вора. Из кофейни донеслись звуки ребаба, и голос поэта начал свой вечерний рассказ: «Первое слово о нашем господине управляющем. Второе слово о футувве нашем, Саадалле. Третье слово о футувве нашего квартала Аджадже…» Арафа очнулся от своих мечтаний и с тоской и гневом промолвил: «Ну, начинается! Когда же придет конец этим сказкам? Какой толк слушать одно и то же каждый вечер? Когда-нибудь поэт запоет песню, которая разбудит все кофейни, всю многострадальную улицу…»
96
Что-то случилось с дядюшкой Шакруном: временами он начинал разговаривать так громко, будто произносил речь. Люди сочувственно говорили: «Старость есть старость!» А порой он приходил в страшную ярость из-за самой пустяковой причины, а то и вовсе без причины. Люди говорили: «Стареет!» Иногда же он надолго замолкал, не открывая рта даже тогда, когда нужно было что-то сказать. И люди говорили: «Да, это старость». А то вдруг он произносил речи, которые на улице считались крамолой.