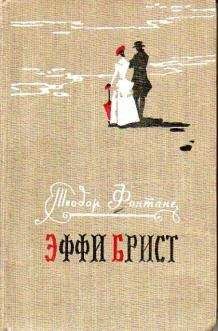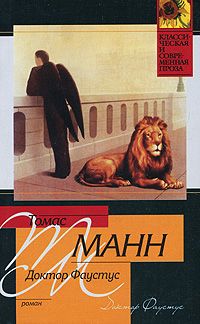Томас Манн - Доктор Фаустус
Подобные взгляды были почему-то отрадны посетителям салона урождённой фон Плаузиг, и, по-моему, они чувствовали скорее некоторую неуместность таких суждений в устах Брейзахера, чем неуместность своих аплодисментов в их адрес.
Точно так же, говорил он, обстоит дело с переходом музыки от монодии к многоголосью, к гармонии, в котором тоже принято видеть культурный прогресс, тогда как в действительности это самое настоящее достояние варварства.
— Это, по-вашему… пардон… варварство? — пропел господин фон Ридезель, привыкший, наверно, усматривать в варварстве некую, пусть слегка компрометирующую форму консерватизма.
— Конечно, ваше превосходительство. Истоки многоголосья, то есть пения в интервалах квинты или кварты, находятся далеко от центра музыкальной цивилизации — от Рима, где существовал культ прекрасного голоса, они находятся на сиплом севере и были, по-видимому, своеобразной компенсацией сиплости. Они находятся в Англии и Франции, преимущественно в дикой Британии, которая даже первой включила в гармонию терцию. Так называемое развитие слуха, усложнённость, прогресс являются, стало быть, подчас продуктом варварства. Я не уверен, что таковое надо за это хвалить…
Было совершенно ясно, что он потешался над его превосходительством и над всем обществом, прикидываясь консерватором. Ему бывало явно не по себе, когда кто-нибудь угадывал его мысли. Полифоническая вокальная музыка, это изобретение прогрессивного варварства, стала, разумеется, объектом его консервативного покровительства, как только совершился исторический переход от неё к гармонически-аккордовому принципу, а вместе с тем к инструментальной музыке двух последних столетий. Но таковая объявлялась упадком, упадком великого и единственного настоящего искусства контрапункта, священно холодной игры чисел, которая, слава богу, не имела ещё ничего общего с профанацией чувств и нечестивой динамикой; этот упадок захватил уже великого Баха из Эйзенаха, которого Гёте совершенно справедливо назвал мастером гармонии. Будучи изобретателем темперированного клавира, а значит, способа многозначно толковать и энгармонически видоизменять любой звук, а значит, новейшей романтической модуляционной техники, он заслуженно получил то суровое прозвище, которым наделил Баха веймарский мудрец. Гармонический контрапункт? Его нет в природе. Это ни рыба ни мясо. Смягчение, разжижение и фальсификация, преобразование старой и подлинной полифонии, воспринимавшейся как взаимодействие разных голосов, в гармоническую аккордовость началось уже в шестнадцатом веке, и такие люди, как Палестрина, оба Габриэли и наш славный, красующийся по соседству, на площади, Орландо ди Лассо, не к чести своей, уже приложили здесь руку. О да, эти господа более других «очеловечили» для нас понятие вокально-полифонического искусства и потому представляются нам величайшими мастерами данного стиля. Но объясняется это просто тем, что по большей части они уже находили удовольствие в чисто аккордовом строе, а их манера трактовать полифонический стиль уже довольно скверно смягчалась оглядкой на гармонические созвучия, на соотношение консонансов и диссонансов.
Пока все удивлялись, забавлялись и преклонялись, я пытался встретиться глазами с Адрианом, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели на него эти досадные речи; но он отвёл от меня взгляд. Что касается фон Ридезеля, то главный интендант пришёл в полное замешательство.
— Пардон, — говорил он, — позвольте… Бах, Палестрина…
Эти имена были освящены для него авторитетом консерватизма, а тут их переносили в область модернистской растленности. Он солидаризировался, но вместе с тем был так взволнован, что даже вынул из глаза монокль, отчего лицо его лишилось последнего проблеска мысли. Не менее туго пришлось ему, когда культурно-критические разглагольствования Брейзахера коснулись Ветхого завета, а стало быть, сферы личного происхождения оратора, темы еврейского племени, или народа, и духовной его истории, продемонстрировав и здесь крайне двусмысленный, грубый и при этом злобный консерватизм. Послушать его, так упадок, поглупение и утрата всякого контакта со старым и подлинным заявили о себе столь рано и в столь почтенном месте, что об этом никто и думать не смел. Могу только сказать, что в общем его рассуждения были до смешного абсурдны. Такие почитаемые каждым христианином библейские персонажи, как цари Давид и Соломон, а равным образом и пророки «с их болтовнёй о боге небесном» были для него уже захудалыми представителями обескровленной поздней теологии, понятия не имевшими о старой и подлинной иудейской сущности народного элохима Ягве и видевшими только «загадку первобытных времён» в обрядах, которыми служили этому национальному богу или, вернее, добивались его физического присутствия, в эпоху подлинной народности. Особенно доставалось от него «премудрому» Соломону: он так на него нападал, что мужчины только посвистывали сквозь зубы, а дамы удивлённо ахали.
— Пардон! — говорил фон Ридезель. — Я, мягко выражаясь… Царь Соломон, его величие… Не пристало ли вам…
— Нет, ваше превосходительство, не пристало, — отвечал Брейзахер. — Это был эстет, обессилевший от эротических наслаждений, а в религиозном отношении прогрессивный тупица, что очень типично для вырождения культа действенно присутствующего национального бога — носителя метафизической силы народа, в проповедь абстрактного, общечеловеческого бога на небеси, то есть от религии народной к всемирной религии. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать скандальную речь, которую он произнёс после сооружения первого храма и в которой спросил: «Может ли жить бог среди людей на земле?» — словно вся задача Израиля не состояла в том, чтобы создать богу жильё, шатёр и всеми средствами заботиться о его, бога, постоянном присутствии. А Соломон преспокойно витийствует: «Небеса тебя не объемлют, насколько же меньше храм сей, мною воздвигнутый!» Это вздор, это начало конца, то есть выродившегося представления о боге, характерного для псалмопевцев, у которых бог уже окончательно отправлен на небо и которые упорно поют о боге небесном, хотя Пятикнижие не знает такого местопребывания божества, как небо. Там элохим шествует впереди народа в огненном столпе, там он хочет жить в народе, ходить среди народа и иметь стол для закланий — избегая позднейшего, худосочного и филантропического словца «алтарь». Кто бы подумал, что псалмопевец заставит бога спросить: «Разве ем я мясо быков и пью кровь козлищ?» Вложить такой вопрос в уста бога — это нечто неслыханное, фривольный плевок просвещения прямо в лицо Пятикнижию, чётко определившему жертву как «хлеб», то есть как доподлинную пищу Ягве. От этого вопроса, а впрочем, уже и от речей премудрого Соломона всего один шаг до Маймонида, слывущего величайшим раввином средневековья, но по сути Аристотелева выученика, ухитряющегося «толковать» — ха, ха! — жертву как уступку бога языческим инстинктам народа. Итак, жертва из крови и жира, которая когда-то, посоленная и приправленная пряностями, кормила бога, давала ему плоть, является для псалмопевца всего только «символом» (до сих пор помню, каким неописуемо презрительным тоном произнёс это слово доктор Брейзахер): закланию подлежит уже не животное, а — как ни невероятно — благодарность и смирение. «Кто заклал благодарность, — сказано ныне, — тот меня почтил». Словом, всё это давно уже не народ и не кровь, а жиденькая гуманистическая похлёбка…
Вот образец высококонсервативных брейзахеровских излияний. Это было в равной мере забавно и противно. Он не уставал выставлять подлинный ритуал, культ реального, отнюдь не абстрактно-универсального, а потому и не «всемогущего», не «всесущего» народного бога магической техникой, физически не безопасной манипуляцией динамического, при которой вполне возможны несчастные случаи, катастрофические короткие замыкания в результате ошибок и промахов. Сыновья Аарона умерли потому, что применили «не надлежащий огонь». Это пример такого несчастного случая, такого причинного следствия ошибки. Некто по имени Уза, опрометчиво дотронувшись до так называемых скрижалей завета, когда священный кивот грозил свалиться с повозки, тут же пал бездыханным трупом. Это тоже было трансцендентально-динамической разрядкой, возникшей по небрежности, а именно по небрежности злоупотреблявшего игрой на арфе царя Давида, который тоже уже ничего не понимал и по-филистерски велел погрузить кивот на повозку, вместо того чтобы, как это вполне обоснованно предписывало Пятикнижие, нести таковой на шестах. В том-то и дело, что Давид был уже не менее чужд изначальному и не меньше, чем Соломон, поглупел, чтобы не сказать — «загрубел». Он ничего не знал о динамических опасностях народной переписи и, устроив её, вызвал тяжёлый биологический удар — эпидемию, смерть, как заранее очевидную реакцию метафизических народных сил. Ибо настоящий народ просто не выносил такой механической регистрации, разложения динамического целого на безликие нумерованные единицы…