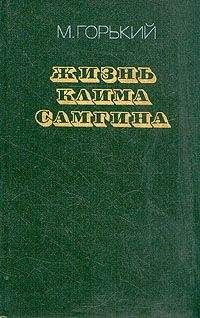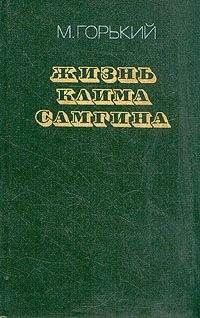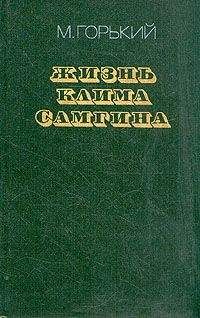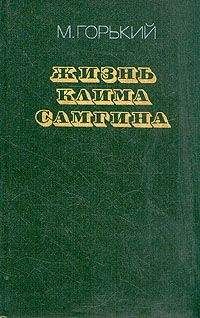Максим Горький - Жизнь Клима Самгина. "Прощальный" роман писателя в одном томе
— И пошутить не велят…
Сошел с колокольни кузнец, покрестился длинной рукой на церковь. Панов, согнув тело свое прямым углом, обнял его, поцеловал:
— Богатырь! И закричал:
— Православные! Берись дружно! С богом! Три кучи людей, нанизанных на веревки, зашевелились, закачались, упираясь ногами в землю, опрокидываясь назад, как рыбаки, влекущие сеть, три серых струны натянулись в воздухе; колокол тоже пошевелился, качнулся нерешительно и неохотно отстал от земли.
— Ровнее, ровней, боговы дети! — кричал делатель пивных бутылок грудным голосом восторженно и тревожно.
Тускло поблескивая на солнце, тяжелый, медный колпак медленно всплывал на воздух, и люди — зрители, глядя на него, выпрямлялись тоже, как бы желая оторваться от земли. Это заметила Лидия.
— Смотрите, как тянутся все, точно растут, — тихо сказала она; Макаров согласился:
— Да, меня тоже поднимает… «Врешь», — подумал Клим Самгин. На площади было не очень шумно, только ребятишки покрикивали и плакали грудные младенцы.
— Ровнее, православные! — трубил Панов, а урядник повторял не так оглушительно, но очень строго:
— Ровнее, эй, правые!
Три группы людей, поднимавших колокол, охали, вздыхали и рычали. Повизгивал блок, и что-то тихонько трещало на колокольне, но казалось, что все звуки гаснут и вот сейчас наступит торжественная тишина. Клим почему-то не хотел этого, находя, что тут было бы уместно языческое ликование, буйные крики и даже что-нибудь смешное.
Он видел, что Лидия смотрит не на колокол, а на площадь, на людей, она прикусила губу и сердито хмурится. В глазах Алины — детское любопытство. Туробоеву — скучно, он стоит, наклонив голову, тихонько сдувая пепел папиросы с рукава, а у Макарова лицо глупое, каким оно всегда бывает, когда Макаров задумывается. Лютов вытягивает шею вбок, шея у него длинная, жилистая, кожа ее шероховата, как шагрень. Он склонил голову к плечу, чтоб направить непослушные глаза на одну точку.
Вдруг, на высоте двух третей колокольни, колокол вздрогнул, в воздухе, со свистом, фигурно извилась лопнувшая веревка, левая группа людей пошатнулась, задние кучно упали, раздался одинокий, истерический вой:
— Ба-атюшки-и…
Колокол качался, лениво бил краем по кирпичу колокольни, сыпалась дресва, пыль известки. Самгин учащенно мигал, ему казалось, что он слепнет от этой пыли. Топая ногами, отчаянно визжала Алина.
— Эх, черти, — пробормотал Лютов и чмокнул.
— Держи, православные! — ревел Панов и, отпрыгивая, размахивал руками.
Кривоногий кузнец забежал в тыл той группы, которая тянула прямо от колокольни, и стал обматывать конец веревки вокруг толстого ствола ветлы, у корня ее; ему помогал парень в розовой рубахе. Веревка, натягиваясь все туже, дрожала, как струна, люди отскакивали от нее, кузнец рычал:
— Держи! Убью!
Клим прикрыл глаза, ожидая, когда колокол грохнет о землю, слушая, как ревут, визжат люди, рычит кузнец и трубит Панов.
— Связывай!
— Не бойсь, православные! Тихо-о! Дружно-о! По-ше-ол!
Колокол снова, почти незаметно, поплыл вверх, из окна колокольни высунулись головы мужиков.
— Домой, — резко сказала Лидия. Лицо у нее было серое, в глазах — ужас и отвращение. Где-то в коридоре школы громко всхлипывала Алина и бормотал Лютов, воющие причитания двух баб доносились с площади. Клим Самгин догадался, что какая-то минута "исчезла из его жизни, ничем не обременив сознание.
Хромой, сойдя с крыльца, держал за плечо испуганного подростка и допрашивал:
— Что ж он — жив?
— Я не знаю. Пусти, дядя Михаиле…
— Идиёт. Видишь, а не понимаешь…
Под ветлой стоял Туробоев, внушая что-то уряднику, держа белый палец у его носа. По площади спешно шагал к ветле священник с крестом в руках, крест сиял, таял, освещая темное, сухое лицо. Вокруг ветлы собрались плотным кругом бабы, урядник начал расталкивать их, когда подошел поп, — Самгин увидал под ветлой парня в розовой рубахе и Макарова на коленях перед ним.
— Как это случилось? — тихо спросил Клим, оглядываясь. Лидии уже не было на крыльце.
Она вышла из школы, ведя под руку Алину, сзади их морщилось лицо Лютова. Всхлипывая, Алина говорила:
— Мне так не хотелось идти сюда, а вы… По улице села шли быстро, не оглядываясь, за околицей догнали хромого, он тотчас же, с уверенностью очевидца, стал рассказывать:
— Ему веревкой шею захлестнуло, ну, позвоночки и хряскнули…
Лютов, показав хромому кулак, шепнул:
— Молчи.
Вопросительно взглянув па него, на Клима, хромой продолжал:
— А может, кузнец пошутил, нарочно веревку-то накинул… Может, и ошибся… Всякое бывает.
Лютов, придерживая его за рукав, пошел тише, но и девушки, выйдя на берег реки, замедлили шаг. Тогда Лютов снова стал расспрашивать хромого о вере.
Невидимые сверчки трещали так громко, что казалось — это трещит высушенное солнцем небо. Клим Самгин чувствовал себя проснувшимся после тяжелого сновидения, усталым и равнодушным ко всему. Впереди его качался хромой, поучительно говоря Лютову:
— Например — наша вера рукотворенного не принимат. Спасов образ, который нерукотворенный, — принимам, а прочее — не можем. Спасов-то образ — из чего? Он — из пота, из крови Христовой. Когда Исус Христос на Волхову гору крест нес, тут ему неверный Фома-апостол рушничком личико и обтер, — удостоверить себя хотел:
Христос ли? Личико на полотне и осталось — он! А вся прочая икона, это — фальшь, вроде бы как фотография ваша…
Лютов сдержанно повизгивал:
— Погоди, почему моя фотография — фальшь?
— Так ведь как же? Чья, как не ваша? Мужик — что делает? Чашки, ложки, сани и всякое такое, а вы — фотографию, машинку швейную…
— Ага, вот что?..
В смехе Лютова Клим слышал сладостный визг, который испускает набалованная собачка, когда ей чешут за ушами.
— Хлеб, скажем, он тоже нерукотворный, его бог, земля родит.
— А чем тесто месят?
— Это — дело бабье. Баба — от бога далеко, она ему — второй сорт. Не ее первую-то бог сотворил…
Лидия взглянула через плечо на хромого и пошла быстрее, а Клим думал о Лютове:
«Очень скучно ему, если он развлекается такими глупостями».
— Откуда это ты взял? Откуда? Ведь не сам выдумал, нет? — оживленно, настойчиво, с непонятной радостью допрашивал Лютов, и снова размеренно, солидно говорил хромой:
— Не сам, это — правильно; все друг у друга разуму учимся. В прошлом годе жил тут объясняющий господин… Клим подумал:
«Объясняющий господин? Очень хорошо!»
— Так он, бывало, вечерами, по праздникам, беседы вел с окрестными людями. Крепкого ума человек! Он прямо говорил: где корень и происхождение? Это, говорит, народ, и для него, говорит, все средства…
— Ты его в поминание записать должен. Записал?
— Шутите. Мы и своих-то покойников забываем поминать.
— А он — помер?
— Этого не знаю…
Придя домой, Самгин лег. Побаливала голова, ни о чем не думалось, и не было никаких желаний, кроме одного: скорее бы погас этот душный, глупый день, стерлись нелепые впечатления, которыми он наградил. Одолевала тяжелая дремота, но не спалось, в висках стучали молоточки, в памяти слуха тяжело сгустились все голоса дня: бабий шепоток и вздохи, командующие крики, пугливый вой, надсмертные причитания. Горбатенькая девочка возмущенно спрашивала:
«Да — что вы озорничаете?»
Уже темнело, когда пришли Туробоев, Лютов и сели на террасе, продолжая беседу, видимо, начатую давно. Самгин лежал и слушал перебой двух голосов. Было странно слышать, что Лютов говорит без выкриков и визгов, характерных для него, а Туробоев — без иронии. Позванивали чайные ложки о стекло, горячо шипела вода, изливаясь из крана самовара, и это напомнило Климу детство, зимние вечера, когда, бывало, он засыпал пред чаем и его будил именно этот звон металла о стекло.
На террасе говорили о славянофилах и Данилевском, о Герцене и Лаврове. Клим Самгин знал этих писателей, их идеи были в одинаковой степени чужды ему. Он находил, что, в сущности, все они рассматривают личность только как материал истории, для всех человек является Исааком, обреченным на заклание.
«Нужно иметь какие-то особенные головы и сердца, чтоб признавать необходимость приношения человека в жертву неведомому богу будущего», — думал он, чутко вслушиваясь в спокойную речь, неторопливые слова Туробоева:
— Среди господствующих идей нет ни одной, приемлемой для меня…
Быстро забормотал Лютов, сначала невозможно было разобрать, что он говорит, но затем выделились слова: