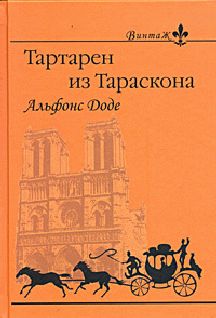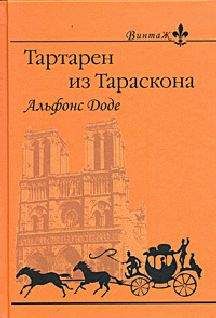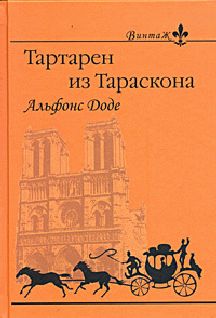Альфонс Доде - Тартарен из Тараскона
О, сцена прощания Тартарена с малюткой, которую сам Тартарен в таинственном полумраке рассказывал шепотом на ухо своей собеседнице! Кто не слыхал этого, тот вообще ничего не слыхал.
Я не берусь утверждать, что рассказ Тартарена полностью соответствовал действительности, что эта сцена не была им хоть сколько-нибудь приукрашена. Во всяком случае, он повествовал о событиях так, как бы ему хотелось, чтобы они происходили: бедная принцесса, пылкая, страстная, в душе у которой шла борьба между дочерним долгом и супружеской верностью, в конце концов вцепилась в героя своими маленькими ручонками и голосом, полным отчаяния, крикнула: «Возьми меня с собой! Возьми меня с собой!» А у него сердце обливалось кровью, но он отталкивал ее и вырывался из ее объятий: «Нет, дитя мое, так надо. Оставайся со своим старым отцом, — кроме тебя, у него никого нет…»
Рассказывая об этом, Тартарен самым настоящим образом плакал, и ему казалось, что прекрасные глаза креолки, устремленные на него, тоже наполняются слезами, а солнце в это время медленно погружалось в море и покидало горизонт, затопляемый фиолетовой мглой.
Внезапно к ним приблизились какие-то тени, и все очарование нарушил резкий, холодный голос командора:
— Поздно уже, дорогая, да и свежо, — идемте!
Она встала и, чуть заметно кивнув головой, вымолвила:
— Покойной ночи, господин Тартарен!
Он был потрясен той глубокой нежностью, какую она вложила в свои слова.
После этого он еще некоторое время прохаживался по палубе, и в ушах у него продолжало звучать: «Покойной ночи, господин Тартарен!» Но командор был прав: воздух быстро свежел, и Тартарен решил идти спать.
Проходя мимо маленького салона, Тартарен увидел в приотворенную дверь своего секретаря: тот с озабоченным видом сидел за столом, подперев одной рукой голову, а другой перелистывая словарь.
— Что это вы делаете, дитя мое?
Верный Паскалон рассказал ему о том, какое неприятное впечатление произвел его внезапный уход, о перешептывании возмущенных сотрапезников, а главное, о таинственной фразе лейтенанта Шипа, которую командор заставил его повторить и которая всех насмешила.
— Хоть я и недурно понимаю по-английски, а все-таки смысла не уловил, только слова запомнил и теперь пытаюсь уразуметь, что же означала вся фраза.
Выслушав доклад секретаря, Тартарен лег в постель, поудобнее, поуютнее вытянулся, повязал голову платком, пододвинул к себе большущий стакан с апельсинной водой и, закурив трубку, которую он всегда выкуривал перед сном, спросил:
— Вы кончили перевод?
— Да, дорогой учитель: «В сущности тарасконец — это тот же француз, только в увеличенном, непомерно увеличенном виде, точно отраженный в зеркальном шаре».
— И вы говорите, что они над этим покатывались?
— Все трое: и лейтенант, и доктор, и сам командор — никто не мог удержаться от смеха.
Тартарен пожал плечами и изобразил на своем лице сожаление:
— Известно, что англичанам редко выпадает случай посмеяться, вот они и рады всякой ерунде! Ну, дитя мое, пора спать, до завтра!
Немного погодя оба они заснули, и во сне один из них увидел Клоринду, а другой — супругу командора, ибо Лики-Рики была уже далеко.
Дни шли за днями и складывались в недели, путешествие превращалось в прелестную, очаровательную прогулку, и Тартарен, так любивший возбуждать к себе симпатию, приводить в восхищение, все время ощущал вокруг себя эту атмосферу и наблюдал самые разнообразные проявления этих чувств.
Он мог бы сказать о себе словами Виктора Жакмона[113], который в одном из своих писем выразился так: «Странно сложились мои отношения с англичанами! Эти люди, с виду такие бесстрастные, такие холодные друг с другом, мгновенно оттаивают от моей непринужденности. Они волей-неволей впервые в жизни становятся ласковы; я делаю их добрыми, я в двадцать четыре часа офранцуживаю любого англичанина».
На «Томагавке» все обожали Тартарена — и офицеры и матросы, обожали везде одинаково: и на носу и на корме. Всякие разговоры о том, что он военнопленный, что его дело будет передано в английский суд, были прекращены, — его собирались освободить в Гибралтаре.
А суровый командор, в восторге, что у него такой сильный партнер, как Паскалон, по вечерам часами держал злосчастного вздыхателя Клоринды за шахматной доской, чем приводил его в отчаяние, так как он не мог отнести Клоринде лакомые кусочки от своего обеда. Дело в том, что горемыки тарасконцы по-прежнему влачили в своей каторжной тюрьме жалкое существование эмигрантов, и для Тартарена это была пытка и мука — разливаясь соловьем на юте или же в печальный час заката ухаживая за леди Уильям, бросить случайный взгляд вниз и вдруг увидеть своих соотечественников, сбившихся в кучу, как убойный скот, под охраной часового, и с ужасом от него отворачивающихся, особенно явно после того, как он стрелял в Тараска.
Они не прощали губернатору его преступления, да и он сам не забыл этого выстрела, сулившего ему несчастье.
Уже прошли Малаккский пролив, Красное море, уже обогнули Сицилию, уже близок был Гибралтар.
Однажды утром показалась земля, и Тартарен с Паскалоном, призвав на помощь лакея, начали было укладывать вещи, как вдруг все ощутили толчок, какой бывает приостановке судна. «Томагавк» застопорил. Одновременно послышался приближающийся плеск весел.
— Посмотрите, Паскалон, — сказал Тартарен, — уж не лоцман ли это?..
В самом деле, к судну приставала шлюпка, но без лоцмана. На ней развевался французский флаг, в ней сидели французские матросы и еще два каких-то человека во всем черном и в высоких шляпах. Тартарен взыграл духом:
— О! Французский флаг! Дайте мне посмотреть, дитя мое!
Он бросился к иллюминатору, но дверь внезапно отворилась, в каюту хлынули потоки света, и вслед за тем два полицейских чина в штатском платье, державшие себя грубо и нагло, предъявив приказ об аресте, разрешение на выдачу преступников и всякую прочую музыку, наложили лапу на несчастный «Существующий порядок» и на его секретаря.
Губернатор отшатнулся, побледнел и с достоинством произнес:
— Прошу не забываться — я Тартарен из Тараскона.
— Вас-то нам и надо!
И тут их обоих схватили — схватили без объяснения причин, оставив без ответа все их многочисленные вопросы, не потрудившись сообщить, в чем их преступление, за что их задержали и куда повезут. Сейчас они не испытывали ничего, кроме стыда, оттого что их вели в кандалах — им и правда надели наручники — мимо матросов, мимо гардемаринов, а затем, под смех и улюлюканье соотечественников, которые, перевесившись через борт, били в ладоши и кричали истошными голосами: «Вот это здорово!.. Так им и надо!.. Так им и надо!..» — посадили в шлюпку.
Тартарен рад был очутиться на дне морском.
Из военнопленного, под стать Наполеону или Фемистоклу, превратиться в обыкновенного жулика!
А тут еще супруга командора на него смотрит!
Положительно, он был прав: Тараск ему за себя мстил, и мстил жестоко.
III
Продолжение Паскалонова «Мемориала»
5 июля. Тарасконская тюрьма на Роне. Я только что с допроса. Теперь я понял, в чем нас обвиняют, губернатора и меня, почему нас тогда так неожиданно взяли на «Томагавке», схватили в тот момент, когда мы были наверху блаженства, на седьмом небе, выловили, как двух лангустов на чистом дне морском, надели наручники, переправили на французский корабль, доставили в Марсель, оттуда в Тараскон и посадили в секретную.
Нам предъявили обвинение в мошенничестве, в непреднамеренном убийстве и в нарушении закона об эмиграции. Ну, а как же я мог не нарушить этот треклятый закон, коли я до сих пор не подозревал о его существовании?
Два дня нас продержали в тюрьме, причем нам было строжайше запрещено вступать с кем-либо в разговоры, — а что может быть ужаснее для тарасконца? — и наконец вызвали в суд к следователю г-ну Бонарику.
Бонарик начал свою карьеру в Тарасконе лет десять тому назад, меня он прекрасно знает, сто раз приходил ко мне в аптеку, — я ему приготовлял мазь от хронической экземы на щеке.
Тем не менее я должен был сообщить ему мое имя, фамилию, возраст, профессию, как будто он в первый раз меня видит. Мне пришлось показывать буквально все, что я знаю по делу о Порт-Тарасконе, и говорил я битых два часа без передышки. Его секретарь за мной не поспевал — вот до чего я разошелся. Ну, а потом: «Подследственный! Можете удалиться». Даже «до свиданья» не сказал.
В коридоре суда я столкнулся с бедным губернатором — мы не виделись с того дня, как нас засадили в тюрьму. Он сильно изменился.
Он успел пожать мне руку на ходу и ласково молвил: