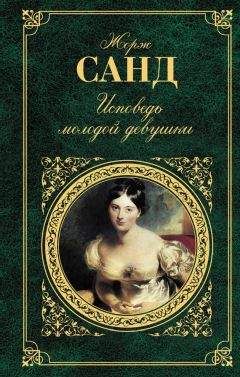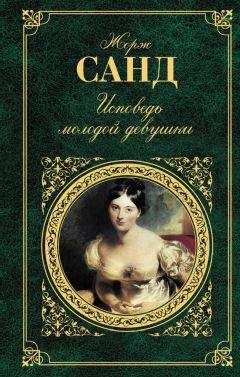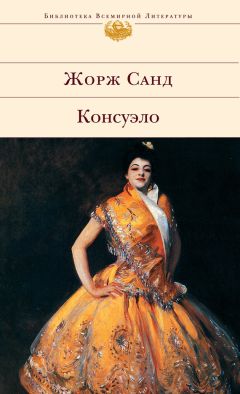Жорж Санд - Исповедь молодой девушки
LXXII
Несколько дней я не желала слушать утешения, отказывалась строить планы на будущее. Я упрямо искала одиночества, забиралась в непроходимые овраги, отыскивала укромные местечки на склонах бау — высокого округлого холма, заросшего густой травой и кое-где опасного из-за крутых, обрывистых откосов. Очертания его были прекрасны, на вершине, где солнце уже выжгло траву, царило полное безлюдье. Я залезала в глубокие известковые расщелины в уступах под самой вершиной и там, в тени сосен, укоренившихся в трещинах, скрывалась от розысков Женни и Фрюманса. Мне так хотелось убежать от моей взбаламученной жизни, которая прежде улыбалась мне, а теперь заслуживала одной ненависти, что мысли мои упорно обращались к смерти. Сейчас было самое время вернуться мечтами к Фрюмансу, но как раз Фрюманс, неколебимый под ударами судьбы, был мне особенно невыносим: его стойкость возмущала меня как нечто противоестественное. Когда Женни пыталась ставить его в пример, я приходила в неистовство.
— Если он уже умер, почему не ложится в могилу? — кричала я. — Что это за жизнь без сердца и мозга? Фрюманс больше ничему не может научить меня и вообще никогда не был мне настоящей поддержкой. Уже в детстве я могла бы сказать ему: «Утес, что общего между тобой и мной?»
Я была беспощадна и все-таки по-своему права. Фрюманс не мог ни помочь, ни утешить меня, потому что ровным счетом ничего не понимал в терзавшей меня боли. Ему ли, олицетворению рассудочности, было проникнуть в тайны этого чувствительного и прихотливого инструмента — сердца девушки? Считая, что сделал из меня мужчину, он и говорил со мной как с мужчиной. По его убеждению, страдать из-за недостойного человека способен только глупец, поэтому я старалась скрыть от него свое горе, а если он все-таки что-то замечал — Фрюманс был довольно наблюдателен, — резко говорила:
— Ну хорошо, я глупа, дальше что? Оставьте меня в покое, если не можете помочь!
Он был безмерно терпелив и кроток со мной, но меня переполняла горечь, и я твердила себе, что досаждаю Фрюмансу, отрывая от привычных занятий, и мои невзгоды не столько трогают его, сколько угнетают. Даже присутствию Женни он радовался меньше, чем следовало, — так по крайней мере считала я. Она была поглощена заботами обо мне, и мне казалось, что Фрюманс ревнует. Словом, я стала подозрительна и как будто навсегда утратила способность находить в людях хорошее.
Видя мое отчаяние, пала духом и Женни. Однажды утром, взглянув на нее, я поразилась бледностью ее лица, обычно столь свежего, и вдруг заметила, что в черных бандо, обрамлявших лоб Женни, засеребрилась седина. Мне стало страшно: за одну неделю она постарела на десять лет.
— Что с тобой? — воскликнула я.
— Со мной ваше горе, — ответила она.
И это было правдой. Она не думала о себе, мое несчастье было ее несчастьем, другого попросту не существовало. Удар, нанесенный мне, поразил ее в самое сердце. Меня охватило такое раскаяние, что я стала перед ней на колени.
— Женни, это моя вина, это я тебя убиваю, — сказала я. — Поэтому со дня приезда я так мечтаю о смерти.
— Знаю, вижу, что вы больше не хотите жить. Вы уходите гулять, а я всякий раз думаю — может, она уже не вернется. И идти за вами мне тоже нельзя — вы рассердитесь, и будет еще хуже. Каждую ночь я думаю — может, она уже не проснется. Вы тут знаете все травы, вдруг принесете с прогулки какую-нибудь ядовитую. Вот я и не сплю по ночам, а днем не нахожу себе места. Готовлю для вас, а сама думаю — будет ли кому есть это кушанье, чиню ваши разорванные юбки и говорю себе: «Сколько тут дыр, столько у нее было приступов ярости во время ее дикой беготни по горам». Вы хотите развязать Женни руки? Так ведь? Что ж, пусть будет по-вашему, Женни все равно недолго протянет после этого. Убивать себя грешно, Бог запретил это человеку, но когда тебе уже нечего делать на свете и некому служить, тогда, верно, это наш долг — освободить место другим… Молчите! — воскликнула она с силой. — Я знаю, о чем вы думаете! Вы хотите уйти, чтобы освободить место мне, чтобы я могла любить, выйти замуж, работать на себя. Глупая и жестокая девочка! Ладно, делайте что хотите! На том свете знают, что творится здесь, вы увидите, какую счастливую жизнь устроили Женни! Бедная моя госпожа! Она видит, как у нас все идет, и мучается в аду, потому что несчастье тех, кого мы любили, — вот он, единственный настоящий ад! А ведь она не заслужила мучений, она только для нас и жила.
Женни разрыдалась. Впервые на моей памяти она не устояла под бременем жизни. Да, не устояла, и это было делом моих рук. Как я была отвратительна себе в эту минуту!
LXXIII
— Клянусь, Женни, во имя тебя и во имя бабушки, я не расстанусь с жизнью, — вставая, сказала я с жаром. — Поверь, горе мое смягчается, я справлюсь с ним, уже справилась. Будем действовать, думать, решать, как нам жить, не откладывая в долгий ящик, не прося ни помощи, ни совета. А главное, уедем отсюда, уедем далеко-далеко. Станем жить вдвоем и все делить пополам — работу и хлеб, усталость и бремя забот. Мы исцелим друг друга, утешим и обе найдем в этом радость.
Женни не знала, чем я для нее пожертвовала. Пришлось сказать ей, что у меня нет никаких средств к существованию, так как, с одной стороны, я не желала хоть единым грошом быть обязанной леди Вудклиф, а с другой — заранее отказалась защищать по суду свои права. Я дала понять, что поступила так под влиянием обиды на Мак-Аллана, умолчав о ее собственной роли в этой истории. Поэтому она сочла мое поведение неразумным, хотела что-то исправить, попросить совета у господина Бартеза, но тот уехал по важному делу в Марсель и должен был вернуться не раньше чем через две недели. Я не собиралась его ждать, да и мое отречение от прав было для меня так свято, что даже мысль о возможности пойти на попятный казалась кощунством. Только оно и утешало меня во всех унижениях, выпавших на мою долю, только им, этим сознательным отказом от материальных благ, выражала я протест против моих клеветников.
Женни оставалось лишь склонить голову перед совершившимся.
— Ну хорошо, давайте подсчитаем наши средства, — сказала она. — У нас всего восемь тысяч франков — шесть я заработала на службе у вашей бабушки, две отложила еще до того, как поступила к ней. На это, конечно, нам не прожить. Надо браться за работу, надо в пять-шесть лет сколотить еще двенадцать тысяч. Тогда у нас будет тысяча франков ренты, и мы поселимся в деревне, в каком-нибудь красивом месте, где вы пожелаете. Вы там сможете читать ваши книги, а я буду вести хозяйство.
— Чудесно, Женни, будем работать. Чем мы займемся?
— Единственным, чем я могу довольно быстро заработать эти деньги, — торговлей. Я понимаю в ней толк, мы откроем лавочку, и, надеюсь, я поставлю дело так, что потом мы ее выгодно перепродадим. Я буду торговать, а вы тем временем займетесь переводами, — не может быть, чтобы для такой образованной девушки не нашлось работы. Думается мне, господин Мак-Аллан даже не говорил ни с кем о вас. Значит, прежде всего надо ехать в Париж искать издателя, без этого не обойтись. Потом решим, где нам обосноваться, чтобы и для моей торговли было выгодно, и для ваших переводов удобно. И если пока мы никак не можем сказать, что все к лучшему, скажем по крайней мере, что все — в надежде на лучшее.
Женни рассказала о своих планах Фрюмансу, и он мужественно одобрил ее, добавив, что, если когда-нибудь будет свободен и понадобится нам, ничто на свете не помешает ему быть с нами, посвятить себя нам.
— Запомните это и вы, Женни, и вы, Люсьена, — говорил он. — Где захотите и как захотите, издали или вблизи я буду помогать вам в торговле или поступлю на службу. Все мое принадлежит вам и сегодня и впредь. Кроме аббата Костеля, никто и ничто не может встать преградой между нами. Через год, и через двадцать лет, и через тридцать я ваш, ваша собственность. И вы обе никогда не забывайте об этом.
Почти все наши вещи так и лежали нераспакованные, поэтому мы могли бы уехать в тот же вечер, но Фрюманс должен был взять часть денег Женни у господина Бартеза, поместившего их в ценные бумаги. Ехать в Тулон не имело смысла, контора все равно была уже закрыта, и мы условились, что он поедет туда завтра утром, а вечером усадит нас с Женни в дилижанс.
Решение было принято, я немного успокоилась и почувствовала себя как бы заранее вознагражденной за избранную мною трудовую жизнь. Женни была задумчива и сосредоточенна. Я повела ее на бау — мне хотелось в последний раз поглядеть вместе с ней на море и закат солнца в Провансе. Пошел с нами и Фрюманс. Мы начали было обсуждать планы на будущее, но нас обоих встревожило молчание Женни.
— Тебе нездоровится? — спросила я ее. — Тропинка очень крутая, давай вернемся.
— Нет, ходьба всегда идет на пользу, — возразила она. — Поднимемся еще немного.
Когда мы взобрались до середины склона, я усадила Женни и украдкой стала наблюдать за ней, делая при этом вид, будто любуюсь Средиземным морем в огне заката, — она терпеть не могла привлекать к себе внимание. Глаза Фрюманса тоже были полны тревоги. Женни становилась все бледней и бледней. В алом блеске заката ее белое платье казалось совсем розовым, но лицо приобрело какой-то синеватый оттенок. Вдруг голова Женни откинулась назад, я едва успела поддержать ее. Она потеряла сознание, но через секунду пришла в себя.