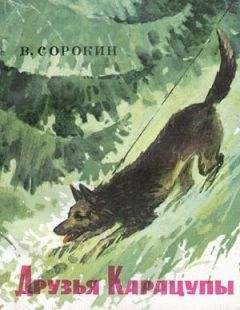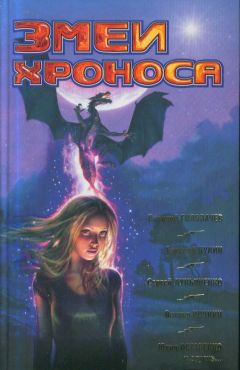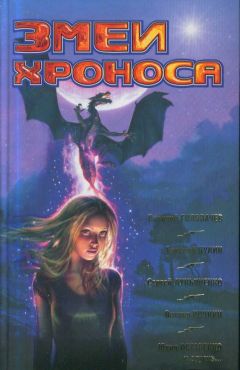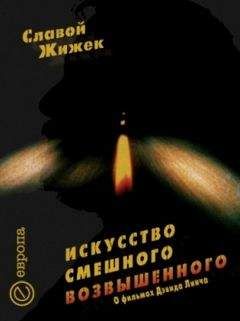Василий Гроссман - Жизнь и судьба
Штрум не сомневался в своих результатах. Подобная уверенность никогда не была присуща ему. Но именно теперь, когда он формулировал самое важное научное решение, найденное им в жизни, он ни разу не усомнился в его истинности. В те минуты, когда мысль о системе уравнений, позволявших по-новому толковать широкую группу физических явлений, пришла к нему, он почему-то, без свойственных ему сомнений и колебаний, ощутил, что мысль эта верна.
И теперь, подводя к концу свою многосложную математическую работу, вновь и вновь проверяя ход своих рассуждений, он не испытывал большей уверенности, чем в те минуты, когда на пустынной улице внезапная догадка поразила его.
Иногда он пытался понять путь, которым шел. Внешне все казалось довольно просто.
Поставленные в лаборатории опыты должны были подтвердить предсказания теории. Однако этого не случилось. Противоречие между результатом опыта и теорией естественно вызвало сомнение в точности опытов. Теория, выведенная на основе десятилетних работ многих исследователей и, в свою очередь, объяснившая много новых опытных работ, казалась незыблемой. Повторные опыты вновь и вновь показали, что отклонения, претерпеваемые заряженными частицами, участвующими в ядерном взаимодействии, по-прежнему совершенно не соответствуют предсказаниям теории. Любые, самые щедрые поправки на неточность опытов, на несовершенство измерительной аппаратуры и фотоэмульсий, применяемых при фотографировании ядерных взрывов, не могли объяснить таких больших несоответствий.
Тогда стало очевидно, что результаты опытов не подлежат сомнению, и Штрум постарался подштопать теорию, ввести в нее произвольные допущения, позволяющие подчинить теории полученный в лаборатории новый опытный материал. Все, что он делал, исходило из признания основного и главного: теория выведена из опыта, и потому опыт не может противоречить теории. Огромный труд был затрачен на то, чтобы добиться увязки теории с новыми опытами. Но подштопанная теория, от которой казалось немыслимым отойти и отказаться, по-прежнему не помогала объяснению все новых и новых противоречивых опытных данных. Подштопанная, она оставалась беспомощной, как и неподштопанная.
И вот тогда-то пришло новое! Штрум сорвал погоны с плеч маршала!
Старая теория перестала быть основой, фундаментом, всеобъемлющим целым. Она не оказалась ошибочной, она не оказалась нелепым заблуждением, но она вошла как частное решение в новую теорию… Порфироносная вдова склонилась главой перед новой царицей. Все это произошло мгновенно.
Когда Штрум стал думать о том, как возникла в его мозгу новая теория, его поразила неожиданность.
Тут, оказывается, полностью отсутствовала простая логика, связывавшая теорию с опытом. Здесь как бы кончались следы на земле, он не мог понять дороги, которой шел.
Раньше ему всегда казалось, что теория возникает из опыта: опыт рождает ее. Противоречия между теорией и новыми опытными данными, казалось Штруму, естественно приводят к новой, более широкой теории.
Но удивительное дело, — он убедился, что все происходило совершенно не так. Он достиг успеха именно тогда, когда не пытался связать ни опыт с теорией, ни теорию с опытом.
Новое, казалось, возникло не из опыта, а из головы Штрума. Он с удивительной ясностью понимал это. Новое возникло свободно. Башка породила теорию. Логика ее, ее причинные связи не были связаны с опытами, которые Марков проводил в лаборатории. Теория, казалось, возникла сама по себе из свободной игры мысли, и эта словно бы оторвавшаяся от опыта игра мысли и позволила объяснить все богатство старого и нового опытного материала.
Опыт был внешним толчком, заставившим работать мысль. Но он не определял содержание мысли.
Это было поразительно…
Голова его была полна математических связей, дифференциальных уравнений, правил вероятности, законов высшей алгебры и теории чисел. Эти математические связи существовали сами по себе в пустом ничто, вне мира атомных ядер и звезд, вне электромагнитных полей и полей тяготения, вне пространства и времени, вне человеческой истории и геологической истории земли… Но они были в его голове…
И в то же время голова его была полна иных связей и законов, — квантовых взаимодействий, силовых полей, констант, определявших живую суть ядерных процессов, движения света, сплющивания и растяжения времени и пространства. И удивительное дело, — в башке физика-теоретика процессы материального мира были лишь отражением законов, порожденных в математической пустыне. В голове Штрума не математика отражала мир, а мир был проекцией от дифференциальных уравнений, мир был отражением математики…
И в то же время голова его была полна показаний счетчиков и приборов, пунктирных линий, запечатлевших движение частиц и ядерных взрывов в эмульсии и на фотографической бумаге…
И в то же время в голове его жил шум листьев, и свет луны, и пшенная каша с молоком, и гудение огня в печке, и отрывки мелодий, и собачий лай, и римский сенат, и сводки Совинформбюро, и ненависть к рабству, и любовь к тыквенным семечкам…
И вот из этой каши вышла теория, всплыла, вынырнула из той глубины, где не было ни математики, ни физики, ни опытов в физической лаборатории, ни жизненного опыта, где не было сознания, а горючий торф подсознания…
И логика математики, не связанная с миром, отразилась и выразилась, воплотилась в реальности физической теории, а теория вдруг с божественной точностью наложилась на сложный, пунктирный узор, отпечатанный на фотографической бумаге.
И человек, в чьей голове произошло все это дело, глядя на дифференциальные уравнения и на куски фотографической бумаги, подтверждавшие порожденную им истину, всхлипывал и вытирал плачущие счастливые глаза…
И все же, — не будь этих неудачных опытов, не возникни хаос, нелепица, они бы с Соколовым кое-как подлатали и подштопали старую теорию и ошиблись бы.
Какое счастье, что нелепица не уступила их настойчивости.
И все же, хотя новое объяснение родилось из головы, оно было связано с опытами Маркова. И ведь верно, — не будь в мире атомных ядер и атомов, не было бы их и в мозгу человека. Да-да, и не будь блестящего Маркова, не будь механика Ноздрина, не будь великих стеклодувов Петушковых, не будь МОГЭСа, не будь металлургических печей и производства чистых реактивов, не было бы предугадывающей реальность математики в башке физика-теоретика.
Штрума удивляло, что он достиг своего высшего научного успеха в пору, когда был подавлен горем, когда постоянная тоска давила на его мозг. Как же оно могло случиться?
И почему именно после взбудораживших его опасных, смелых, острых разговоров, не имевших никакого отношения к его работе, все неразрешимое вдруг нашло решение в течение коротких мгновений? Но, конечно, это — пустое совпадение.
Разобраться во всем этом было трудно…
Работа была закончена, и Штруму захотелось говорить о ней, — до этого он не думал о людях, с которыми поделится своими мыслями.
Ему захотелось видеть Соколова, написать Чепыжину, он стал представлять себе, как встретят его новые уравнения Мандельштам, Иоффе, Ландау, Тамм, Курчатов, как воспримут их сотрудники отдела, сектора, лаборатории, какое впечатление они произведут на ленинградцев. Он стал думать, под каким названием опубликует он работу. Он стал думать, как отнесется к ней великий датчанин, что скажет Ферми. А может быть, сам Эйнштейн прочтет ее, напишет ему несколько слов. Кто станет противником ее, какие вопросы поможет она решить.
Ему не хотелось говорить о своей работе с женой. Обычно, прежде чем отправить деловое письмо, он прочитывал его Людмиле вслух. Когда он неожиданно встречал на улице знакомого, то первой его мыслью было, — вот удивится Людмила. Споря с директором института и произнося резкую фразу, он думал: «Вот расскажу Людмиле, как я ему врезал». Он не представлял себе, как смотреть кинофильм, сидеть в театре и не знать, что Людмила рядом, что можно шепнуть ей: «Господи, какая мура». И всем, что сокровенно тревожило его, он делился с ней; еще студентом он говорил: «Знаешь, мне сдается, что я идиот».
Почему же он молчал сейчас? Может быть, потребность делиться с ней своей жизнью вызывалась верой, что она живет его жизнью больше, чем своей, что его жизнь и есть ее жизнь? А теперь этой уверенности не стало. Она разлюбила его? Может быть, он перестал любить ее?
Но он все же рассказал жене о своей работе, хотя ему не хотелось говорить с ней.
— Ты понимаешь, — сказал он, — какое-то удивительное чувство: что бы ни случилось со мной теперь, в сердце вот это — недаром прожил жизнь. Понимаешь, именно теперь впервые не страшно умереть, вот сию минуту, ведь оно, это, есть, родилось!
И он показал ей на исписанную страничку на столе.