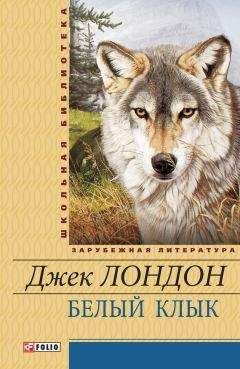Джек Лондон - Маленькая хозяйка Большого дома. Храм гордыни
Подворачивались и другие дела. Он доверил свои деньги некоему Паркинсону, дезертиру-капитану, которому никто не доверял. А Паркинсон на маленькой «Веге» отправился в таинственное путешествие. О Паркинсоне он заботился, пока тот не умер, а много лет спустя Гонолулу был поражен вестью о том, что Дрейк и Экорн, острова с гуано, проданы Британскому фосфатному тресту за три четверти миллиона. Когда же наступили изобильные, хмельные дни правления короля Калакауа, А-чун заплатил триста тысяч долларов за право торговать опиумом. Хотя ему и пришлось уплатить за монополию треть миллиона, но деньги были помещены хорошо, ибо доходы позволили ему купить плантацию Калалау, которая в течение семнадцати лет приносила ему тридцать процентов прибыли и была продана за полтора миллиона.
Задолго до этого, при династии Камехамехов, он служил своей родине как китайский консул — должность, не лишенная кое-каких выгод; а при Камехамехе IV переменил подданство и стал гражданином Гавайев, чтобы жениться на Стелле Аллендейл, которая была подданной темнокожего царька, хотя в жилах ее текло больше англосаксонской, чем полинезийской, крови. Самые разнообразные примеси были в ее крови, некоторые из них в пропорции — один к восьми и один к шестнадцати. В этой последней пропорции влилась в нее, например, кровь прабабки ее — Паа-ао — принцессы Паа-ао из рода царей. Прадед Стеллы Аллендейл, некий капитан Блант, английский авантюрист, служил при Камехамехе I и удостоился звания вождя. Ее дед был капитаном китобойного судна из Нью-Бедфорда, а в отце смешалась кровь итальянцев и португальцев с чистой английской кровью. Супруга А-чуна, гавайская подданная, скорее принадлежала к одной из этих трех национальностей.
И в это смешение рас А-чун внес монгольскую кровь. Таким образом, его дети от миссис А-чун были на одну тридцать вторую — полинезийцы, на одну шестнадцатую — итальянцы, на одну шестнадцатую — португальцы, наполовину — китайцы и на одиннадцать тридцать вторых — англичане и американцы. Очень возможно, что А-чун воздержался бы от брака, если бы мог предвидеть, какое удивительное потомство произойдет от этого союза, а удивительным оно было во многих отношениях. Прежде всего, по количеству. А-чун стал отцом пятнадцати сыновей и дочерей, преимущественно дочерей. Сначала появились на свет сыновья — три сына, затем, в нерушимой последовательности, дюжина дочерей. Результат скрещивания рас оказался превосходным. Потомство было не только многочисленным, но и здоровым, без малейшего изъяна, и поражало своей красотой. Все девушки были красивы — нежные, эфирные красавицы. Закругленные линии мамаши А-чун словно сгладили угловатость тощего папаши А-чуна, и дочери вышли стройные, но не сухопарые; полные, но не толстые. В каждом лице что-то смутно напоминало Азию, но на всех лежал отпечаток Старой и Новой Англии и Южной Европы. Ни один наблюдатель, предварительно не осведомленный, не сумел бы подметить в их жилах значительную примесь китайской крови, тогда как наблюдатель осведомленный тотчас же уловил бы ее отпечаток.
В красоте дочерей А-чуна было что-то новое, до сей поры невиданное. Они удивительно походили друг на друга, и в то же время красота их была резко индивидуальна. Невозможно было спутать одну с другой. И тем не менее — Мод, голубоглазая и белокурая, тотчас же заставляла вспоминать Генриетту, оливковую брюнетку с большими темными и томными глазами и черными, синевой отливающими волосами. Сходство, примиряющее все различия, было лептой А-чуна. Он заложил фундамент, на который наложили отпечаток все расы. Он дал тонкокостный китайский скелет, который саксонская, латинская и полинезийская плоть облекла нежным покровом.
У миссис А-чун были свои взгляды на жизнь, и А-чун считался с ними, поскольку они не нарушали его философского спокойствия. Она привыкла жить на европейский лад. Прекрасно! А-чун подарил ей европейский дом. Позже, когда сыновья и дочери подросли и могли ему советовать, он построил огромный бунгало, столь же непретенциозный, сколь великолепный. С течением времени на горе Танталус вырос дом, в котором семья могла спасаться, когда дул с юга «дурной ветер». А в Ваикики он построил на берегу дачу и так удачно выбрал для этой цели большой участок земли, что впоследствии, когда правительство Соединенных Штатов постановило возвести здесь крепость, отчуждение принесло А-чуну огромную сумму денег. Во всех его домах имелись бильярдные, курительные и многочисленные комнаты для гостей, ибо изумительное потомство А-чуна склонно было жить на широкую ногу. Обстановка была до экстравагантности проста. Благодаря утонченным вкусам потомства огромные суммы тратились не напоказ.
На воспитание детей А-чун не скупился. «О расходах не думайте, — говорил он в былые дни Паркинсону, когда этот ленивый моряк не видел нужды совершенствовать «Вегу». — Ваше дело — управлять шхуной, мое — платить по счетам». Так же он относился и к воспитанию своих сыновей и дочерей. Им следовало получить образование, а не думать о расходах. Гарольд, старший, побывал в Гарварде и Оксфорде; Альберт и Чарльз учились в Иэйле, а дочери, от старшей и до младшей, обучались в калифорнийской семинарии Миллз, а оттуда переходили в Вассар, Уэллсли или Брин Маур. Некоторые пожелали закончить образование в Европе. И со всех концов света сыновья и дочери возвращались к А-чуну и давали ему советы по украшению скромных в своем великолепии резиденций. Сам А-чун предпочитал восточную роскошь и блеск, но, будучи философом, прекрасно понимал, что вкус его детей соответствует стандартам Запада.
Конечно, его дети не были известны как дети А-чуна. Подобно тому как он сам из кули превратился в мультимиллионера, так и эволюционизировало его имя. Мамаша А-чун писала свою фамилию — «А'Чун», а более мудрые ее отпрыски выбросили апостроф и стали писать — «Ачун». А-чун не протестовал. Правописание его имени нимало не нарушало его благоденствия и философского спокойствия. Кроме того, он не был горд. Но когда дети его поднялись на высоту крахмальных рубашек, твердых воротничков и сюртуков, пострадали и его благоденствие, и его спокойствие. А-чун и слышать об этом не хотел. Он предпочитал свободную китайскую одежду, и ни лаской, ни угрозами они ничего не могли от него добиться. Они применяли оба метода, но последний оказался особенно неудачным. Недаром побывали они в Америке, где познали силу бойкота, которым пользуются организованные рабочие. Теперь с помощью мамаши А'Чун они стали бойкотировать своего отца, Чун А-чуна в его же собственном доме. Но А-чун, хотя и не искушенный в западной культуре, был знаком с постановкой рабочего вопроса на Западе. Тотчас же он объявил локаут[9] своему мятежному потомству и заблуждавшейся жене. Рассчитал многочисленных слуг, запер дома и конюшни и переехал в Королевский гавайский отель, главным пайщиком которого он являлся. Переполошившаяся семья гостила у друзей, а А-чун спокойно занимался своими многочисленными делами, курил свою длиннейшую трубку с крохотной серебряной чашечкой на конце и размышлял над проблемой своего удивительного потомства.
Эта проблема не нарушала его покоя. Он рассудил по-философски, что сумеет разобраться в ней, когда она созреет. Тем временем он внедрял в детей сознание того, что, несмотря на всю свою сговорчивость, он тем не менее остается абсолютным диктатором семейства. Семья держалась неделю, затем вернулась в бунгало вместе с А-чуном и многочисленными слугами. И с тех пор никто не возражал, когда А-чун в голубом шелковом халате, ватных туфлях и черной шелковой шапочке с красной пуговкой на макушке появлялся в своей блестящей гостиной или же курил на широкой веранде или в курительной свою тонкую трубку с серебряной чашечкой в обществе офицеров и штатских, куривших папиросы и сигары.
А-чун занимал исключительное положение в Гонолулу. Никогда не появляясь в обществе, он, однако, всюду был принят. За исключением китайских торговцев, никого не посещал, но многих принимал у себя дома и занимал центральное место, сидя во главе стола. Он, китайский крестьянин, главенствовал над самыми культурными и утонченными людьми островов. И не нашлось на островах ни одного человека, слишком гордого для того, чтобы не переступить порог его дома и не принимать его гостеприимства. Объяснялось это, во-первых, тем, что дом А-чуна был поставлен на аристократическую ногу; во-вторых, сам А-чун был лицом очень влиятельным. И, наконец, все знали его, как безупречно нравственного человека и честного дельца. Своей суровой, неподкупной честностью А-чун затмил всех дельцов Гонолулу, хотя по сравнению с жителями материков они были людьми честными. Вошло в поговорку, что его слово стоит расписки. Он чувствовал себя связанным и без расписки и слову своему никогда не изменял. Через двадцать лет после смерти Хотчкиса, главы фирмы «Хотчкис и Мортерсон», среди старых бумаг нашли запись о ссуде А-чуну тридцати тысяч долларов. Эту сумму А-чун получил в бытность свою тайным советником при Камехамехе II. В те угарные годы расцвета и погони за наживой А-чун совершенно позабыл об этом деле. Никакой расписки не оказалось, и нельзя было предъявить ему иск, но А-чун расплатился сполна с фирмой Хотчкис, добровольно уплатив сложные проценты, значительно превышавшие капитал. И еще один пример: когда самые большие пессимисты считали излишним какие бы то ни было поручительства за выполнение обязательств по проведению канала Какику, он, А-чун, поручился за это злополучное предприятие словом; и вот каков был доклад секретаря лопнувшего предприятия, секретаря, которого послали разузнать намерения А-чуна, хотя на благоприятный исход не было никакой надежды: «Джентльмены, он и глазом не моргнул — сразу подписал чек на двести тысяч». И много можно привести подобных примеров, свидетельствующих о нерушимости его слова, но этого мало: вряд ли на островах нашелся бы хоть один человек с положением, которому А-чун не оказал бы финансовой помощи.