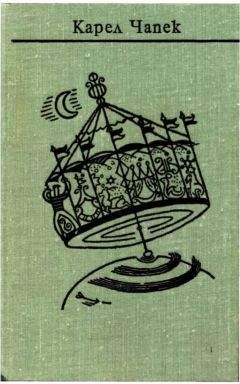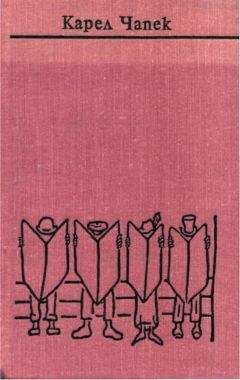Карел Чапек - Чапек. Собрание сочинений в семи томах. Том 5. Путевые очерки
«Ну, конечно же, это маяк!» — думает он опять. Вот теперь уж целый снопик лучей, бегающий туда-сюда, туда-сюда, как огни маяка: вспыхнет и пропадет; щупает бездонную тьму здесь и там, словно маяк на отмели ночью. «Ах, — вдруг вспоминает пассажир. — Да ведь это и есть маяк! Просто авиамаячок на аэродроме в Кбелах. А похоже на огни пристани».
Теперь впереди уже не пучок лучей, а огромный столб света, властно пронизывающий тьму здесь и там. Действительно красиво. На небосклоне вдали бушует гроза; ветвистые зигзаги молний полыхают между небом и землей, а здесь через каждые три секунды бьет яркая белая молния маяка, — полезная молния, озаряющая тьму. И вот уже через весь черный небосклон протянулась световая полоска, брызжущая из одной точки горизонта и рассекающая безграничный мрак. Где-то ближе — где же это? — пламенеют два алых огня: один светит спокойно, другой равномерно мерцает: похоже на буи — сигналы, указывающие путь к порту. А еще выше — где же это? — опять белый огонек; нет, тоже два огонька: белый и зеленый; а вон там — опять два: белый и красный. Белый с зеленым вдруг приблизились, стали выше — господи, да ведь это самолет! А белый и красный — другой самолет. И обе пары огней закружились вокруг друг друга, разлетелись в разные стороны и опять стали сближаться. Словно любовная игра двух самолетов во время токованья. Который же из вас самочка, аэропланы?
И вдруг совсем близко загудел третий самолет, захваченный гигантским световым столбом маяка; на мгновенье сверкнул по черному небу страшным металлическим, фосфорным блеском, вспыхнул глянцем гигантской стрекозы — и опять утонул во тьме: слышно только его жесткое грохотанье. Это было внезапно и поразительно, как чудо; да и в самом деле было чудом: в этом коротком, ослепительном проблеске раскрылась волнующая красота нового века и вместе с тем приоткрылось будущее.
Маячок Кбелского аэродрома, спасибо тебе за это! Есть у нас теперь настоящий порт — и с маяком, указывающим во тьме наш берег. Пространство вокруг нас расширилось от движения твоих световых столбов. У нас нет моря, но ты, Кбелский маячок, — вестник обступающих нас гремучих далей.
[1931]
Холм Святого Креста
Вы скорее отыщете Еврейские печи — так этот холм зовется в просторечии, хотя ни печей, ни креста, даже евреев там нет, только чахлая трава, бугристые, изрытые оврагами склоны, но главным образом жижковский люд. Это голая, ободранная и неприглядная горушка, то ли карьер, то ли место детских игр, а в поздние часы — что-то совсем другое; с одной стороны холма горизонт закрывает Ольшанское кладбище — его тополя и кипарисы, купола и башенки гробниц кажутся чем-то южным, поэтическим; под ним — заброшенный Ольшанский пруд, заводь слизняков с водой, зеленой, как в горном озере, и густой, как сметана. Внизу — черный, закопченный и облупленный Жижков, дальше, на горизонте — Градчаны, отсюда и впрямь какие-то ненастоящие, а только так, символический силуэт; здесь, с другой стороны темной долины, — зелень Виткова, массивной стены жижковского водоема. Сзади холм завершает таинственная ограда оружейного завода, откуда звучат выстрелы, как из пояса вечной войны.
Днем здесь ребятишки со змеями, с луками из спиц старых зонтов; там, лежа на животах, подростки режутся в карты; тут растянулись парни, надвинув на лица кепки и положив головы на колени милым, а милые — замерли, не шелохнутся, благоговея перед мужским превосходством. Жижковские мамаши чинят белье и сушат грибы, молодые папаши тащат снизу первенцев, а старички выползли со своими трубками и сидят неподвижно над широко раскинувшейся, дымящей Прагой. Долговязый парнишка играет на гармошке не хуже эстрадного артиста; вокруг него, подперев подбородки руками, лежат парни, неподвижно слушая дикие, рыдающие вариации, которыми музыкант украшает простенькую мелодию. Над склоном на фоне неба стоит большая, чудовищно брюхатая женщина, и ее силуэт похож на языческого идола.
На разрытых и выщербленных склонах, на террасах мусора и щебенки, на грудах жестянок и осыпях ютятся хижины, сколоченные из досок и планок, старой жести и картона; новый тип человеческого жилья образца 1924, наверное, еще более жалкий, чем другие, потому что здесь нет даже клочка земли, на котором можно было бы устроить грядки. Возле домишек копошатся хозяйки, возят тачками битый камень, пытаясь укрепить осыпающийся склон. В окнах — перины в красную и синюю полоску, множество детей и визгливый женский крик. На самой макушке холма уцелел народный парк: склон без единого деревца, ржавый песок, поросший реденькой, жесткой травой, но и этого достаточно влюбленным подросткам: едва стемнеет, они подымаются сюда и усаживаются, как говорится, на зеленый ковер. А ночью — ночью человеку здесь делать нечего, место пользуется дурной славой.
Дальше, за оружейным заводом, окруженные проволочными сетками — садики железнодорожных служащих, садики крошечные, но в них хватает места для капусты и подсолнечника, огненной настурции, бегонии, георгинов и чего-то вроде ящика с окошечком, из ящика торчит жестяная труба; ну да, в этих ящиках живут. А там, где склон слегка выровнен, ставят дощатые будки, красят розовой или голубой краской — и готово, еще у одной семьи есть крыша над головой. А еще дальше на последнем уступе холма тянется длинный и печальный поселок, а за ним песчаная поверхность, наподобие лунной, покрытая малюсенькими хребтами и кратерами, на дне которых гниют маленькие зеленые прудики. Это уже и есть самый край города: оголенная до недр и израненная земля городских районов переходит вдруг в прекрасный и мирный край возделанных полей.
Мимо этих мест, направляясь к разбросанным у дорог одиноким хуторкам, идут поодиночке тихие и усталые люди с узелками, в которых утром несли с собой на работу обед; они уходят все дальше и дальше, куда взгляд не достигнет, куда, может быть, никогда и не дойти.
Обратно идешь долго-долго, пока наконец не заслышишь звонки красного трамвая окраины.
[1925]
Полицейский обход
В полночь полицейский обход приблизился к самому краю Коширж. Холодная мартовская ночь; небо покрыто тучами. Человек восемь полицейских и несколько штатских подходят к кирпичному заводу. Вот уж месяц, как печи его погасли, в нем пусто и страшно зияют сводчатые переходы. Однако и тут человеческое ложе: это колода, покрытая куском воняющего дегтем толя, — вот каково это ложе! В углу — маленькая поленница дров: стоит протянуть руку — и в кромешной тьме приветливо заиграет красный огонек. Но теперь тут все мертво: человеческие беды знают свои сезоны.
Проверка проходит мимо. Подходит к Шавлинову дому.
—Закуривайте, — советует комиссар. — Иначе задохнетесь.
Полицейский стучит в окно:
—Откройте.
Отпирает кашляющий сторож. Появление ночных визитеров нисколько его не удивляет.
—У вас есть кто?
—Виноват, не знаю.
Перед нами длинный коридор; тесный ряд дверей, будто в тюремные камеры.
Комиссар стучит в первую.
—Откройте. Полиция!
Слышится топот босых ног; дверь отворилась, выпустив теплую волну запахов. Пахнуло тряпьем, клопами, едой и какой-то гнилью — запахом нищеты.
—Войдем внутрь, — говорит комиссар. — Имеет смысл...
Женщина в рубашке, которая отворяла дверь, не спеша надевает нижнюю юбку.
—Кто у вас тут?
—Мои дети, сударь.
—Где ваш муж?
—Я вдова.
—А в постели кто?
—Моя сестра, сударь.
—А с ней кто лежит?
—Муж ее.
—Дайте воинский документ.
Можно пока осмотреться. Идти некуда: не успеешь шагнуть, как споткнешься о кучу тряпья. Вообще кажется, что тряпье здесь — главный предмет обстановки: тряпки висят на печи и на веревках, лежат в углу и прямо перед вами... Впрочем, нет: это груда детей; из ужасной кучи грязных тряпок на вас спокойно глядят шесть пар детских глаз. Наконец женщина нашла желтый листок. Комиссар светит на него.
—Все в порядке.
Да, да... все в порядке! Значит, ступайте к другим...
Мужчина приподнялся на постели.
—Что вам нужно? Почему не даете людям спать? Чего приперлись?
Комиссар не обращает внимания.
—У вас никого нет?
—Это все наши дети, сударь, — спешит вмешаться жена.
Их тут штук восемь — лежат прямо на полу, под одним одеялом. Видны только головы, и нелегко представить себе клубок тел под ним. И потом — у этой женщины чахотка, на нее страшно смотреть!
—Оставьте нас в покое! Кто вас звал? — злится муж.
—Да перестань, замолчи, — накидывается на него в безумной тревоге жена. — Не слушайте его, господа: это он просто так.
Комиссар слегка ворчит; впрочем, тут почти нет подозрений.
—Это хорошие жильцы, — кашляет сторож.
И еще одни хорошие жильцы — тут же рядом. Двое стариков, куча детей на полу, лохмотья и тьма тараканов. На постели из-под перинки видны молодые, красивые женские руки, прикрытые рассыпавшимися косами.