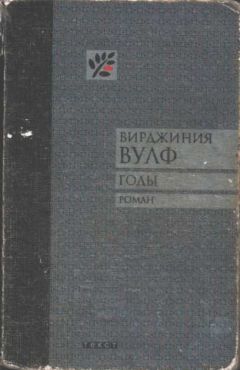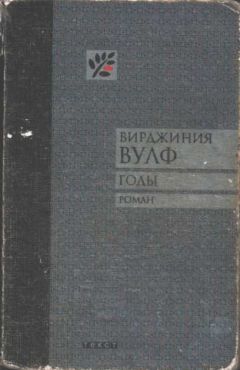Вирджиния Вулф - По морю прочь
— И они остаются женщинами, — добавила миссис Торнбери. — Они многое дают своим детям.
Говоря это, она слегка улыбнулась Сьюзен и Рэчел. Им не нравилось, что их объединяют в одну категорию, но обе немного смущенно улыбнулись в ответ, и Артур с Теренсом тоже переглянулись. Благодаря миссис Торнбери они почувствовали себя в одной лодке и смотрели на своих суженых, сравнивая их. Невозможно было объяснить, как у кого-то могло появиться желание взять в жены Рэчел; невероятно, что кто-то готов провести всю жизнь со Сьюзен; но, несмотря на такое различие своих вкусов, они не желали друг другу зла; каждый даже нравился другому за оригинальность выбора.
— Я должна искренне вас поздравить, — сказала Сьюзен, протягивая руку через стол за джемом.
Казалось, принесенная Сент-Джоном сплетня об Артуре и Сьюзен безосновательна. Они сидели рядом, загорелые и бодрые, с ракетками на коленях, почти ничего не говоря, но постоянно слегка улыбаясь. Через их тонкие белые одежды проступали линии их тел — красивые изгибы мышц, его худоба и ее полнота; и легко было представить, какими крепкими и здоровыми будут их дети. Для красоты их лицам не хватало четкости формы, но у них были ясные глаза, и весь их вид говорил о таком здоровье и выносливости, что казалось, кровь никогда не остановится в его жилах и не перестанет окрашивать ее щеки глубоким и спокойным румянцем. Сейчас их глаза горели ярче, чем обычно, и выражали то удовольствие и уверенность в себе, которые характерны для спортсменов: они только что играли в теннис, а игроками были оба первоклассными.
Эвелин молчала, но все время смотрела то на Сьюзен, то на Рэчел. Что ж, они слишком легко приняли решение, им понадобилось всего несколько недель на то, что она, как ей порой казалось, не сможет сделать никогда. Хотя они были совсем не похожи одна на другую, Эвелин видела в обеих одно и то же выражение удовлетворенности и полноты жизни, одно и то же спокойствие в манере держаться, одну и ту же медлительность движений. Именно эту медлительность, это самодовольство она как раз и не выносит, думала Эвелин. Каждая двигается так медленно, потому что теперь не одна, но обрела пару — Сьюзен прилепилась к Артуру, а Рэчел — к Теренсу, и ради этих мужчин они отвергли всех остальных, остановились, отказались от движения, от всего настоящего, что есть в жизни. Любовь — это, конечно, очень хорошо, хороши эти уютные семейные домики, с кухней внизу и детской наверху, такие отгороженные от мира, такие самодостаточные — точно маленькие островки посреди бурных потоков; но настоящее — то, что происходит в огромном внешнем мире, большие дела, войны, идеалы, то, что творится независимо от этих женщин, которые так покойно и грациозно полагаются на мужчин. Эвелин пристально изучала их. Конечно, они счастливы и довольны, но должно быть кое-что получше этого. Можно стать ближе к жизни, больше получать от нее, испытывать большую радость и больше чувствовать, чем когда-либо смогут они. Особенно Рэчел — она выглядит такой юной, что она может знать о жизни? Эвелин ощутила беспокойство, встала и пересела поближе к Рэчел. Она напомнила ей, что та обещала вступить в ее клуб.
— Загвоздка в том, — продолжила она, — что у меня, возможно, не получится начать серьезную работу до октября. Я только что получила письмо от одного знакомого, у его брата свое дело в Москве. Они хотят, чтобы я пожила у них, а поскольку они в самой гуще всех тамошних заговоров и анархистов, мне очень хочется заехать туда по пути домой. Это, должно быть, так волнующе. — Она хотела, чтобы Рэчел поняла, как это волнующе. — Мой знакомый знает пятнадцатилетнюю девушку, которую пожизненно сослали в Сибирь только за то, что ее застали за отсылкой письма анархисту. И письмо-то было не от нее. Я бы отдала все на свете, чтобы помочь революции против русского правительства, а она надвигается.
Она перевела взгляд с Рэчел на Теренса. Эвелин немного растрогала их обоих, поскольку они вспомнили, что совсем недавно слышали злословие о ней. Теренс спросил, в чем состоит ее план, и она рассказала, что собирается основать клуб — для того, чтобы делать дело, по-настоящему. Она очень оживилась, говорила и говорила, признавалась, что убеждена: стоит двадцати человекам — нет, достаточно и десяти, если они энергичны, — стоит им приняться за дело вместо того, чтобы только говорить об этом, и они смогут искоренить любое из существующих на свете зол. Что нужно, так это мозги. Если это люди с мозгами… Конечно, им понадобится помещение, хорошее помещение, лучше всего — в Блумсбери, где они смогут встречаться раз в неделю…
Теренс видел на ее лице признаки увядающей молодости — морщинки, появлявшиеся у рта и глаз, когда она говорила и волновалась, — но ему не было жаль ее; смотря в эти блестящие, довольно жесткие и очень храбрые глаза, он видел, что ей самой не жаль себя, что она не испытывает никакого желания поменять свою жизнь на более утонченную и упорядоченную жизнь таких, как он и Сент-Джон; хотя, возможно, с годами сражаться будет все труднее и труднее. Впрочем, вероятно, она успокоится; быть может, в конце концов она все-таки выйдет за Перротта. Мысли Теренса были наполовину заняты тем, что она говорила, а наполовину — ее возможной судьбой, при этом легкие клубы дыма скрывали его лицо от ее глаз.
Теренс курил, и Артур курил, и Эвелин курила, поэтому воздух был затуманен и пропитан ароматом хорошего табака. В паузах, когда никто не говорил, они слышали отдаленный рокот морских волн, которые мерно набегали на берег и покрывали его водной пеленой, а потом отступали обратно. Неяркий зеленый свет лился от листьев дерева, и на тарелках и скатерти играли мягкие солнечные полумесяцы и звезды. Миссис Торнбери, некоторое время молча смотревшая на всех, начала задавать Рэчел участливые вопросы: когда они собираются обратно? А, они ждут ее отца. Она обязательно должна увидеться с ее отцом, ей надо многое рассказать ему; разумеется (она с симпатией взглянула на Теренса), он будет так счастлив, она в этом уверена. Много лет назад, продолжила она, может быть лет десять или двадцать, она встретила мистера Винрэса на одном приеме и была так поражена его лицом — оно совсем не походило на лица, обыкновенные для приемов, — что спросила, кто это, и ей сказали, что это мистер Винрэс, и она навсегда запомнила его фамилию — ведь она довольно редкая, — а еще с ним была дама, очень миловидная женщина, но это было одно из тех ужасных лондонских сборищ, на которых не говорят, а только смотрят друг на друга, и, хотя они пожали руки с мистером Винрэсом, кажется, они не сказали друг другу ни слова. Она едва заметно вздохнула, вспоминая прошлое.
Затем она повернулась к мистеру Пепперу, который стал настолько зависим от нее, что всегда садился с ней рядом, слушал, что она говорит, хотя свои замечания вставлял нечасто.
— Вот вы знаете все, мистер Пеппер, — сказала миссис Торнбери. — Расскажите, как эти чудесные французские дамы устраивали свои салоны? У нас в Англии было что-нибудь подобное или вы считаете, что в нашей стране это по какой-то причине невозможно?
Мистер Пеппер с удовольствием подробно объяснил, почему в Англии никогда не было салонов. Тому есть три причины, и все три очень веские, сказал он. Что касается его самого, то он, когда оказывается на приеме — а это приходится делать, чтобы кого-то не обидеть, — его племянница, например, недавно сочеталась браком, — он выходит на середину зала, говорит: «Ха-ха!» — как можно громче, и, посчитав, что долг исполнен, удаляется. Миссис Торнбери возмутилась. Она собиралась устроить прием сразу по возвращении, и они все будут на него приглашены, так вот, она попросит людей наблюдать за мистером Пеппером, и если его заметят говорящим «Ха-ха!», то она… она сделает с ним что-нибудь ужасное. Артур Веннинг предложил подстроить какую-нибудь неожиданность — например, скрыть за портретом старой дамы в кружевном чепце бадью с холодной водой, которая по сигналу будет опрокинута на Пеппера; или подсунуть ему стул, который подбросит его на двадцать футов, как только он на него сядет.
Сьюзен засмеялась. Она уже допила чай и чувствовала себя просто замечательно — и потому, что прекрасно показала себя в теннисе, и потому, что все были так милы. Ей становилось все легче говорить и держать себя даже с очень умными людьми — почему-то умные люди больше не пугали ее. Даже мистер Хёрст, который так ей не понравился при первом знакомстве, был не столь уж неприятен; бедняга, он вечно выглядит больным; вероятно, влюблен; вероятно, он влюблен в Рэчел — Сьюзен ничуть не удивилась бы этому; или в Эвелин — она, конечно, весьма привлекательна для мужчин. Подавшись вперед, Сьюзен вступила в беседу. Она сказала, что, по ее мнению, приемы так скучны, главным образом потому, что мужчины не наряжаются: даже в Лондоне, заявила она, ее поражало, как люди не считают необходимым наряжаться по вечерам, а уж если в Лондоне не наряжаются, то в провинции — тем более. То-то бывает радость на Рождество, когда устраивают охотничьи балы и мужчины носят такие милые красные сюртуки, но — Артур не любит танцев, так что вряд ли они будут ходить на балы даже в их городке. Она считала, что, как правило, если человек увлечен чем-то одним, то все другое его уже не интересует, хотя ее отец — исключение. Но он исключение во всех смыслах — какой он садовник, а сколько всего знает о птицах и зверях, ну и, конечно, его просто обожают все местные пожилые женщины, и в то же время он больше всего любит книги. Если он нужен, всегда знаешь, где его найти — в кабинете с книгой. Скорее всего, это будет старая-престарая, всеми забытая книга, которую никому другому и в голову не придет читать. Она не раз говорила отцу, что из него вышел бы заправский книжный червь, если бы ему не надо было кормить семью о шестерых ртах, а шестеро детей, добавила она, безмятежно уверенная во всеобщем сочувствии, не оставляют времени, чтобы быть книжным червем.