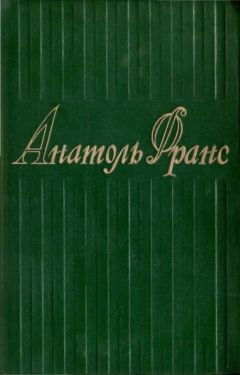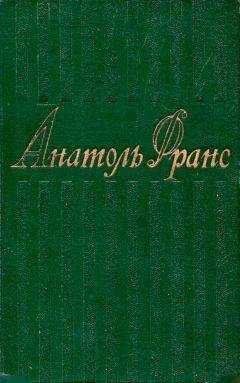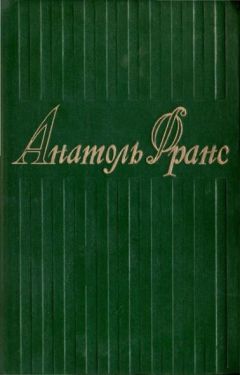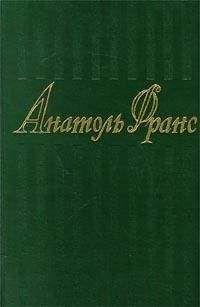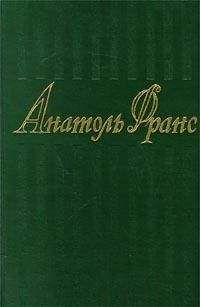Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
— Знаки благоволения господина де ла Геритода, — подхватила она, — богатейшего банкира, занимающего видное положение. Он ссужает деньги самому королю. Это такой отменный друг, что ни за какие блага мира я не соглашусь его огорчить. Но, увы, он не так мил, как вы, господин Жак. Он подарил мне маленький особнячок в Гренеле, я вам его покажу от погреба до чердака. Как я рада, господин Жак, что вы так преуспели. Истинные достоинства всегда бывают оценены. Вы увидите мою спальню, она обставлена точь-в-точь как у мадемуазель Давилье. Все стены в зеркалах и кругом статуэтки, статуэтки… Как поживает ваш добрейший батюшка? Между нами говоря, он малость пренебрегает своей супругой и харчевней. А уж ему не положено так поступать. Но давайте поговорим о вас.
— Поговорим лучше о вас, мамзель Катрина, — вставил я наконец. — Вы чудо как хороши, и очень жаль, что вам по душе капуцины. А генеральных откупщиков никто не поставит вам в упрек.
— О, не попрекайте меня братом Ангелом, — возразила она. — Он мне нужен лишь ради спасения души, и если уж у господина де ла Геритода появится соперник, то это будет…
— Кто?
— Вы еще спрашиваете, господин Жак. Какая неблагодарность! Ведь вы-то хорошо знаете, что я вас всегда отличала. А вы даже на меня не глядели.
— Напротив, мамзель Катрина, я всегда страдал от ваших насмешек. Вы меня стыдили тем, что я безусый юнец. Вы же сами не раз говорили, что я простак.
— Это сущая правда, господин Жак, вы и сами не сознаете, до чего ж это верно. Неужели вы не поняли, что я всегда желала вам добра?
— Тогда зачем же, Катрина, были вы до того прелестны, что нагоняли на меня страх? Я и глаз поднять на вас не смел. А в один прекрасный день я заметил, что вы почему-то совсем на меня разгневались.
— Конечно, разгневалась и была права, господин Жак. Ведь вы предпочли мне эту савойскую сурчиху, эту шваль с пристани святого Николая.
— Ах, верьте мне, душенька Катрина, что тут ни при чем ни мой вкус, ни мои наклонности, а просто Жаннете удалось победить мою застенчивость достаточно энергическими средствами.
— Ах, друг мой, поверьте мне, как старшей: робость в делах любви тяжкий грех. Но разве вы не заметили, что эта нищенка ходит в дырявых чулках и что подол у нее на целый локоть покрыт грязью, словно кружевом!
— Заметил, Катрина.
— Разве вы не заметили, Жак, что она кособокая, хуже того, и боков-то у нее нет?
— Заметил, Катрина.
— Как же в таком случае вы могли любить эту савойскую образину, вы, с вашей белоснежной кожей и изысканными манерами?
— Сам в толк не возьму, Катрина. Надо полагать, что в эту минуту перед моими глазами стояли вы. И коль скоро один ваш образ придал мне отваги и сил, за что вы же меня теперь и упрекаете, — судите сами, Катрина, с какой страстью я заключил бы в свои объятия вас или же девушку, хоть немного на вас похожую. Ибо я безумно любил вас.
Катрина взяла мои руки в свои и вздохнула. А я продолжал самым меланхолическим тоном:
— Да, я любил вас, Катрина, и любил бы поныне, не будь этого мерзкого монаха.
Тут Катрина воскликнула:
— Какое низкое подозрение! Не сердите меня. Это же безумие.
— Стало быть, вы разлюбили капуцинов?
— Фи!
Я счел неуместным распространяться далее на эту тему и обнял Катрину за талию; мы упали друг другу в объятия, наши губы встретились, и я почувствовал, как все мое естество растворяется в жажде наслаждения.
Когда после краткого мгновения сладостного забытья она высвободилась из моих объятий, щеки ее пылали, взор увлажнился, уста полуоткрылись. Так, в этот день узнал я, сколь хорошеет и расцветает женщина, когда губы ее еще хранят вкус поцелуя. От моего поцелуя на щеках Катрины расцвели розы нежнейшего оттенка и словно роса окропила васильки ее глаз.
— Какое вы еще дитя, — промолвила Катрина, поправляя наколку. — Уходите скорее. Вам нельзя здесь дольше оставаться. Сейчас явится господин де ла Геритод. У него не хватает терпения дождаться назначенного для встречи часа, — так он меня любит.
Должно быть, Катрина догадалась по выражению моего лица об охватившей меня досаде, потому что тут же нежно прибавила:
— Послушайте меня, Жак, каждый вечер он ровно в девять часов возвращается домой к своей старой супруге, которая с возрастом стала сварлива, а с тех пор, как сама не способна проказничать, не желает терпеть мужниных проказ и ревнует его сверх меры. Приходите ко мне нынче вечером в половине десятого. Я вас приму. Я живу на углу улицы Бак. Вы сразу узнаете мой дом по трем окнам вдоль фасада и по балкону, увитому розами. Вы же знаете, я всегда любила цветы. До вечера.
Ласковым жестом она оттолкнула меня, и в этом ее движении я почувствовал горечь вынужденной разлуки. Потом, приложив пальчик к губам, она повторила шепотом:
— До вечера!
* * *Уж не помню, как удалось мне оторвать уста от уст Катрины. Помню лишь, что, спрыгнув с подножки кареты, я столкнулся с г-ном д'Астараком, он стоял на краю дороги, напоминая своей долговязой фигурой одинокое дерево. Учтиво поклонившись, я выразил удивление по поводу столь счастливой случайности.
— Сила случая, — возразил он мне, — уменьшается по мере того как возрастает сила знания. Для меня случая не существует. Я, например, твердо знал, сын мой, что непременно встречу вас здесь. Пришла пора для нашей беседы, и так слишком долго откладывавшейся. Если не возражаете, давайте поищем уединенного и спокойного местечка, ибо только такой обстановки требует речь, которую я поведу. Не делайте столь озабоченной мины. Тайны, что я намереваюсь вам поведать, хоть и возвышенны, но приятны.
Говоря так, он повлек меня за собой вдоль берега Сены, и вскоре мы очутились прямо напротив Лебяжьего острова, который вздымал пышный шатер листвы, словно корабль свои паруса. Тут он сделал знак перевозчику, и тот доставил нас на зеленеющий остров, посещаемый, да и то лишь в погожие дни, увечными воинами, что играют здесь в шары и опрокидывают чарочку-другую. Ночь зажгла в небесах первые звезды и пробудила к жизни хор кузнечиков. Остров был пустынен. Г-н д'Астарак присел на деревянную скамью в освещенном конце ореховой аллеи, пригласив меня занять место рядом с ним, и повел такую речь:
— Существуют, сын мой, три сорта людей, от коих философ вынужден скрывать свои тайны. Это власть имущие, ибо неблагоразумно содействовать укреплению их могущества; затем честолюбцы, чьи безжалостные замыслы не должна вооружать философия, и, наконец, распутники, которым обладание магической наукой послужит к удовлетворению низких страстей. Но вам я могу довериться смело, ибо вы не распутник, и хочу надеяться, что лишь недоразумение бросило вас в объятия этой девицы, и не честолюбец, ибо до сего времени вы были вполне довольны жизнью, вращая родительский вертел. Посему без боязни посвящаю вас в сокровенные законы вселенной.
Было бы ошибкой полагать, что жизнь ограничена лишь теми узкими рамками, в которых протекает она на глазах толпы. Когда ваши богословы и ваши философы утверждают, будто человек есть цель и венец творения, они рассуждают не лучше мокриц которые уверены, что сырые подвалы Версаля или Тюильри построены ради них, мокриц, и что весь остальной дворец необитаем. Система мироздания, открытая монахом Коперником в минувшем веке в согласии с Аристархом Самосским[139] и философами-пифагорейцами, вам безусловно известна, поскольку ее в переложении преподают школярам и даже сочиняют на сей предмет диалоги для светской болтовни. Вы сами видели у меня машину, которая показывает все это с помощью часового механизма.
Подымите взор к небесам, дитя мое, и над своей головой вы увидите колесницу Давида, влекомую Мизаром и двумя прославленными спутниками к полюсу, вкруг коего она совершает путь свой; увидите Арктур, Вегу из созвездия Лиры, Колос в созвездии Девы, Ариаднин венец с восхитительной жемчужиной. Все это суть солнца. Даже поверхностный взгляд на вселенную убедит вас, что все творения природы — чада огня и что жизнь в самых совершенных ее формах вскормлена пламенем!
А что такое планеты? Капельки грязи, щепотки тины и плесени. Приглядитесь к царственному хору светил, к скопищу солнц. Все они равны нашей планете или превосходят ее величиной и светоносной силой, и если я зимней ясной ночью покажу вам через мою трубу Сириус, не только ваш взор, но и душа будут ослеплены.
Скажите же, положа руку на сердце, неужели вы верите, что Сириус, Альтаир, Регул, Альдебаран, что все эти солнца не что иное, как светильники и только светильники? Неужели верите вы, что древнейшему Фебу, извечно изливающему в пространство, где плывем мы, неиссякаемые потоки света и тепла, нет иного занятия, как освещать нашу землю и еще тройку-другую каких-то мелких и жалких планет? Вот так свечка! В миллион раз больше опочивальни!