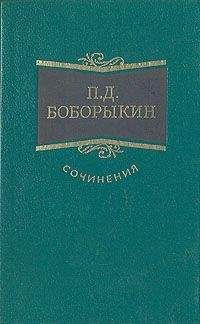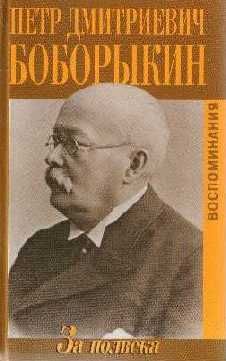Петр Боборыкин - Василий Теркин
Его внезапно подхватило хозяйское чувство и понесло к своему детищу. Почти бегом стал он спускаться по горе к пристани, точно ища спасения от самого себя… стр.337
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ
I
Раннее половодье залило низины плоского прибрежья
Волги, вплоть до села Заводного. Нагорный берег зеленел, покрытый на несколько десятин парком, спускавшимся к реке до узкой песчаной дороги.
Парк этот разделяли глубокие балки, обросшие дубом и кленом, местами березой. Наверх шли еще влажные дорожки, вдоль обрыва и крест-накрест к площадке, где между двумя липовыми аллеями помещались качели. Остатки клумб и заросшие купы кустов выказывали очертания барского цветника, теперь запущенного.
В глубине желтел двухэтажный дом, с террасами, каменный, давно не крашенный. Верхний этаж стоял на зиму заколоченный, да и теперь — с закрытыми ставнями. Позади — вправо и влево — шли службы, обставляя обширный двор с выездом на проселочную дорогу. На горизонте синели леса.
В креслице качель сидела и покачивалась в короткой темной кофточке и клетчатой юбке, с шапочкой на голове, девушка лет восемнадцати, не очень рослая. Свежие щеки отзывались еще детством — и голубые глаза, и волнистые светлые волосы, низко спадавшие на лоб. Руки и ноги свои, маленькие и также по-детски пухлые, она неторопливо приводила в движение, а пальцами рук, без перчаток, перебирала, держась ими за веревки, и раскачивала то одной, то другой ногой.
Несколько ямочек смеялись на ее личике, под самыми глазами, и посредине щек, и даже на подбородке. Глаза — широко разрезанные, прозрачные — переходили стр.338 от одного предмета к другому, от дерева к траве, и дальше к скамье, стоявшей на обрыве, в полукруге низких кустов, еще туго распускавших свои почки.
Солнце начало печь — шел первый час дня.
Девушка изредка щурилась, когда повертывала голову в сторону дома, где был юг. Ее высокая грудь вдыхала в себя струи воздуха, с милым движением рта. Розовые губы ее заметно раскрывались, и рот оставался полуоткрытым несколько секунд — из него выглядывали тесно сидящие зубы, блестевшие на солнце.
Гулять по парку было еще сыро. Вниз, к реке, она не решалась спускаться одна. Вот после обеда, когда ее старшая тетка ляжет отдохнуть, она пойдет к реке, если подъедет Николай Никанорыч к обеду.
Николай Никанорыч живет у них вторую неделю, во флигеле. Он — землемер. Фамилия его Первач. Такая странная фамилия! Она его спросила как-то: "что значит первач?" И он ей объяснил, что так называется какая-то мука, — пшеничная, кажется. Этот Первач — красив, даже очень красив — брюнет, волосы вьются, бородка клинышком и на щеках коротко подстрижена. Одевается "шикозно".
Это слово «шикозно», как и много других, она вывезла из губернского института. Давно ли был выпуск, акт и бал?.. Всего каких-нибудь три месяца с небольшим, перед масленицей. Они — в старшем классе, все носили при себе маленькие календари и отмечали крестиком каждый протянувшийся день. Приехали за ней папа и младшая тетка, Марфа Захаровна, с няней Федосеевной, нашивали платья, белья, каждый день ходили портнихи и приказчики из магазинов. Медали она не получила; только награду — похвальный лист и книги — сочинения Пушкина, с позолоченным обрезом.
Она сама удивилась, что кончила с наградой. Могла бы поступить на какие-нибудь курсы, в Москве или Петербурге. Но ее совсем туда не тянуло. Лучше своего губернского города она ничего не знала. Так ее все любили, — и в институте, и в городе. Прожили они целый месяц; были пикники, вечера в клубе; три раза ее возили в театр; она видела целых три оперетки и по слуху до сих пор напевает оттуда. Нот не успела найти. Папа потом привез ее сюда, в усадьбу, где она давно не бывала. Одно лето проболела. Ее не брали на вакации. Потом ездила в Самару на кумыс. Вот с тех стр.339 пор она так поправилась. Прошло все: кашель, простуды, головные боли, сердцебиение. В институте думали, что у нее будет чахотка, а теперь она — "кубышка".
Так прозвали ее подруги, особенно одна, Маша Холтиопова. Та всегда была больная, белая, точно молоком налитая, с чудной талией. Они клялись писать друг другу каждую неделю. Первые два месяца писали, потом пошло туже.
Да и о чем писать? С тех пор как она в Заводном, день за днем мелькают — и ни за что нельзя зацепиться.
Спать можно сколько хочешь, пожалуй, хоть не одеваться, как следует, не носить корсета. Гости — редки…
Предводитель заезжает; но он такой противный — слюнявый и лысый — хоть и пристает с любезностями. Папа по делам часто уезжает в другое имение, в
Кошелевку, где у него хутор; в городе тоже живет целыми неделями — Зачем? Она не знает; кажется, он нигде не служит.
Ей давно уже сдается — это еще в институте было, — что папа стал с ней не так ласков, как прежде. Он ни в чем ей не отказывает и карманных денег дает — только не на что их тратить; прежде чаще ласкал и расспрашивал обо всем. Теперь — нет. И она совсем его не знает, какой он: добрый, злой, умный или глупый. Письма ему писала она, и в последний год перед выпуском — коротенькие, не умела его ни о чем выспросить — любит ли он ее по-прежнему. Здесь она, когда бывает с ним наедине, чувствует себя маленькой- маленькой. Ничего у нее не выходит — никакого серьезного разговора. Оттого, должно быть, что она еще не вышла из малолеток.
И да, и нет. Какая же она маленькая? У нее — особенно здесь, в деревне — такие грезы по ночам. Проснется — или вся в слезах, или с пылающими щеками — и начнет целовать подушку. Вчера видела Николая Никанорыча в его синем галстуке с золотыми крапинками.
Вот и теперь этот сон прошелся весь перед нею, и ей уже менее стыдно. Она сильно обрадуется, если он вдруг подойдет к качелям и скажет своим приятным голосом:
— Александра Ивановна, позволите?..
И начнет качать высоко-высоко. У нее на сердце захолодеет, голова сладко закружится, в шее и в груди точно что-то защекочет. Она зажмурит глаза — и плывет- плывет. Так чудесно! стр.340
Они поют вместе. Николай Никанорыч умеет ноты разбирать бойчее, чем она, хоть ее и учили в институте, и в хоре она считалась из самых лучших. И когда им нужно взять вместе двойную ноту, на которой есть задержка, она непременно поднимет голову; его черные глаза глядят на нее так, что она вся вспыхнет и тотчас же начнет ужасно громко стучать по клавишам.
Нянька Федосеевна ворчит под нос, что он
"землемеришка". Во-первых, он не просто землемер, а ученый таксатор. Папа его очень уважает и выписал для важной работы: разбить на участки лесную дачу, там за дорогой. Он за это большие деньги получит. Да и что слушать Федосеевну. Она только смущает ее. Все какие-то намеки, которых она не понимает. Про мамашу вспоминает беспрестанно. Дает понять, что тетки — особенно Павла Захаровна — совсем обошли папу. А настоящего не говорит, да и не хочется допытываться.
Зачем? Только себя расстраивать.
Мамашу она не помнит. Сама была еще очень маленькая. Тетки ее баловали — это она помнит, и в институт отдали ее не насильно — ей самой хотелось носить голубое платье с белой пелеринкой.
Ну, что ж из того, что тетя Павла — сухоручка, хромая и перекошенная, и язык у нее с язвой? Замуж ее никто не взял — все старые девы такие. Ее она не грызет. Тетя Марфа — так и совсем добрая. Любит поесть и наливки любит… Что ж!.. Она сама — лакомка. И наливки ей нравятся всякие: сливянки, вишневки, можжевеловки. У тети Марфы в спальне — целые бутыли.
И как там хорошо, в послеобеденные сумерки, полакомиться и выпить рюмочку, лежа на кушетке! Тетя все расспрашивает про Николая Никанорыча — нравится ли, видит ли его во сне, не хочет ли погадать на трефового короля?
Трефовый король — это Николай Никанорыч.
И начнет гадать за овальным столом. Подадут свечи. В спальне так тихо и так вкусно пахнет вареньем, смоквой, вишневкой. Тетя — в блузе, вся красная, щеки лоснятся, и глаза немножко посоловели — наклонится над столом и так ловко раскладывает карты.
— Исполнение желаний, марьяж, письмо, настоящее, будущее, неожиданный удар…
Эти выражения выговаривает она с придыханием. И всегда выходит хорошо — марьяжная карта выпадает стр.341 непременно на самое сердце червонной дамы; червонная дама — это она, Саня.
— Скоро, скоро твоя судьба решится, Санечка, подмигивая, говорит тетя Марфа.
Она и сама точно немного влюблена в Николая Никаноровича: одевается к обеду в шелковый капот с пелериной и на ночь городки себе устраивает каленой шпилькой. Да и тетя Павла, когда себя получше чувствует, с ним любезна, повторяет все, что по нынешним временам такими молодыми людьми грех пренебрегать.
— Ты, Саня, не воображай себя богатой невестой, — не дальше как вчера сказала она ей. — Твой отец еще не стар и жениться может в другой раз; а своего у тебя от матери ничего нет. Вот мы разборчивы были и остались в девках.