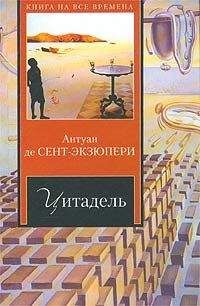Антуан де Сент-Экзюпери - Цитадель
И вот ты узнал: луч неведомого солнца меркнет. Весь город сделался сиделкой, бдящим ночником у изголовья. Все старухи пришли с травяными отварами и наговорами. Мужчины стояли у порога, следя, чтобы улица не шумела. Так его укутывали, баюкали, обмахивали. Так строили между ним и смертью стену, и она должна была стать неприступной, раз все горожане заделались солдатами и обороняли свою твердыню от смерти.
Не говори мне, что болезнь ребёнка — борьба хрупкой плоти, уязвимой оболочки. Если есть где-то далеко-далеко лекарство, за ним снаряжают всадников. И вот уже танец болезни танцуют всадники, мчась по пустыне галопом. Танцуют и тогда, когда остановились на короткий отдых. Когда напились из кувшина. Когда толчком каблука подгоняют лошадь, стремясь выиграть скачку у смерти. Да, конечно, ты видишь только отрешённое, потное лицо ребёнка. Но за него борются и шпоры, вонзающиеся в бока лошади.
Ребёнок жалок? С чего ты взял? Жалок, как генерал во главе могучей армии.
Глядя на малыша, старух, стариков и на тех, кто был помоложе, на улей, сгрудившийся вокруг матки, золотоискателей вокруг золотой жилы, солдат вокруг полководца, я понял: они стали одним целым, они мощь и сила; словно семечко, тянут они необходимое из дробного мира, желая вырастить дерево, башни и крепостные стены, сберечь улыбку, беглую, едва заметную и молчаливую, которая сплотила их всех для боя. И не было жалким уязвимое детское тельце, оно росло, питаясь заботами многих. Само о том не подозревая, оно стало призывным кличем, и на зов его сплотились все запасные полки. Целый город стал на службу ребёнку. Так по зову семечка служат ему минеральные соли, оно упорядочивает их и превращает в кору — крепостную стену кедра.
Как сказать о семени «слабое», если оно в силах сплотить друзей и подчинить врагов? Неужели ты поверил могутности, кулакам и зычному голосу великана? Он силён лишь на этот короткий миг, правда его мгновенна. Ты позабыл о времени. Время укореняет тебя. А громила? Он уже обречён незримой целостностью, где он лишь крошечная частичка.
Ребёнок всегда во главе могучей армии, но ты не видишь этого. Сейчас великан может уничтожить ребёнка. Но не станет. Что за опасность — ребёнок? Но ты увидишь, как ребёнок поставит ногу на голову великана, сокрушив его.
CLIX
Всегда ты видишь одно и то же: слабость побеждает силу. Но для короткого мига, именуемого «сейчас», это неправда, и ты закрепил в своём языке кажимость. Как всегда, ты позабыл о времени. Конечно, если ребёнок разозлит великана, великан уничтожит ребёнка. Но ребёнок играет в другие игры, не его дело злить великанов, ему это не интересно. Он занят тем, чтобы жить незаметно. А ещё чаще тем, чтобы его любили. Став подростком, он помогает великану, и тот начинает нуждаться в нём. Потом наступает время творчества, и ребёнок изобретает пращу. Или становится больше и сильнее великана. Или совсем уже просто: ребёнок начинает говорить, к нему стекаются люди, они для него надёжный щит, он поведёт их на великана. Попробуй теперь его ударить, до него и не дотянуться!
Если в поле пшеницы я увижу один плевел, знаю: поле побеждено. Знаю: побеждён деспот, войско его и жандармы, если где-нибудь в его царстве подрастает ребёнок, похожий на сына Ибрагима, а вместе с ним возникает новая картина, которая по-иному упорядочит мир, взяв его будто в тугую, будто в железную раму (я вижу, силовые линии уже готовы), знаю, что эта картина, это царство развалились и лежат в руинах — храм разрушило крошечное семечко, потому что семечко оказалось мощным деревом, что тянуло свои корни с неспешностью просыпающегося: он потягивается, напрягая мускулы рук и ног. Один корень пошатнул контрфорс, другой — краеугольный камень. Ствол снёс купол, вышибив ключ свода. Здесь отныне над обращённой в прах вещностью царит дерево, вытягивая из неё соки, питая свой дальнейший рост.
Но я знаю: придёт час — и рассыплется в прах древесный гигант. Храм преобразился в дерево, но, возможно, и в лиану. Достаточно крылатого семечка и прихоти ветра.
Чем ты станешь, когда время развернёт тебя? Я не знаю, каков город, укрытый стенами. Но меня научили читать. Город сосредоточился на накопленном, а значит, готов к смерти. Я боюсь только тех, кто ходит голым, кто бродит по северу своей пустыни, где нет крепостей. Бродит безоружным. Семя это ещё не посажено в землю, оно не знает своей силы.
Глубинные воды Эль Ксур возродили моё войско. Мы — семя, спасённое Господом. Кто сможет противостоять нам на нашем пути? Нам достаточно щербинки в стене, и храм развалится, потому что в семени очнулась мощь дерева. Нам достаточно станцевать танец, и ты — крепость — сдашься на волю мужчины и станешь преданной женой, хранительницей домашнего очага. Ты уже моя, похожая на медовую коврижку крепость, — крепость, слишком гордящаяся собой. Я уверен: дозорные твои спят. Ибо сердце в тебе одрябло.
CLX
«Стало быть, — думал я, — дело совсем не в крепостных стенах. Если я выстроил их и они служат моей власти — значит, я незыблем. Но панцирь мёртвого каймана уже не назовёшь крепостью».
Если пастырь клеймит неверов за неверие, можно только посмеяться. Не человек должен прийти в церковь. Церковь должна притянуть к себе человека. Ты же не клеймишь землю за то, что она родила кедр.
Видя, как странствуют по миру проповедники новых религий, увлекая за собой людей, неужели ты думаешь, что новая религия обязана жизнью ветру слов, хорошо подвешенному языку, ловкости зазывалы? Я слишком долго слушал людей и понял: смысл языка совсем не в самих словах. Он передаёт тебе от другого новую точку зрения, таящую в себе силу, она сама отыщет в тебе, чем ей напитаться и как прорасти. Есть слова, подобные семенам, они способны втягивать землю и растить кедр. Но ты можешь посадить и оливу, у тебя вырастет оливковое дерево. Кедр, олива разрастутся, питаясь самостоятельно. Чем выше кедр, тем мощнее гудение ветра в смолистых ветвях. Чем больше стая гиен, тем громче их хохот ночами. Но не станешь же ты утверждать, что гудение ветра в ветвях кедра притягивает земные соки, что магией хохота газель превращается в гиену? Гиена съедает газель, кедр тянет из земли соки. Новая вера обращает неверов. Но что могут слова, если не служат языку, способному вместить?
Вмещаешь, сумев выразить. Если я выразил тебя, ты — мой. С моей помощью ты будешь сбываться. Отныне я для тебя — язык. Потому я и называю кедр языком каменистой земли — благодаря кедру она становится гудением ветра.
И кто, кроме меня, сравнит тебя с деревом, заботясь, чтобы ты сбылся?
Всякий раз, когда я вижу, что усилия человека действенны, я не воздаю хвалу громыханью его фанфар: с таким же успехом их можно возненавидеть, можно не слушать; не хвалю его жандармерию — жандармы могут следить, чтобы стоял на ногах мёртвый народ, но не могут родить живой. Я как-то сказал, что сильное царство казнит уснувших дозорных, а ты совершенно ошибочно решил, что суровость питает силу. В слабом царстве спят все, и если король его примется казнить сонных, окажется кровавым шутом — и только. Сильное царство наполняет всех своей силой, всем отвратительны сони. Действенность усилий я не стану объяснять зажигательной речью, побуждениями людей или доводами рассудка, я буду искать, где таится непреодолимая мощь новой, плодотворной целостности, где оно, лицо чудесной мраморной статуи, — ты смотришь на него и становишься иным.
CLXI
Ночь. Я поднялся на самый высокий холм округи взглянуть на молчаливую крепость, на гаснущие в сгустившейся мгле костры моих биваков среди песков пустыни. Я хотел понять суть того, что происходит; войско моё — мощь пустившегося в путь семечка, город — мощь накрепко закрытой пороховницы; войско, притянутое магнитом крепости, таит в себе новую картину, она только нарождается, пускает корни, безразлично связывает в будущую целостность извечно существующее, я ничего не знаю о ней и в потёмках ищу признаки таинственного возрастания — не для того, чтобы предусмотреть, для того, чтобы направить, ибо всё вокруг, даже дозорные, погружены в сон. Спит оружие. Но ты, ты — корабль, плывущий по реке времени.
Мирным кровом был тебе свет утра, полдня, вечера, он подтолкнул вперёд всё вокруг. После рабочих ладоней солнца ты ощутил дуновение молчаливой ночи. Шелковистой ночи, отданной снам, продолжающей лишь те труды, которым в помощь одиночество; ночи, затягивающей раны, помогающей подниматься сокам, привычно шагать дозорному; ночи, отданной в распоряжение слуг, потому что хозяин лёг отдыхать. Ночи, сглаживающей ошибки, ибо последствия ложного шага отложены до следующего дня. И я — победитель — откладываю до завтра свои победы.
Ночь гроздей, ожидающих сбора, ночь отложенной жатвы. Ночь взятых в кольцо врагов, что сделаются только завтра моими. Ночь поставленных на кон ставок, но игроки отдались на милость сна. Спит купец, сделав главным сторожа, что ходит вокруг амбаров. Спит генерал, сделав главным дозорного. Спит капитан, сделав главным рулевого, и рулевой ставит на место Орион, что запутался между мачт и снастей. Ночь переданной в надёжные руки власти и приостановленных дел.