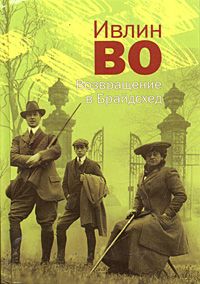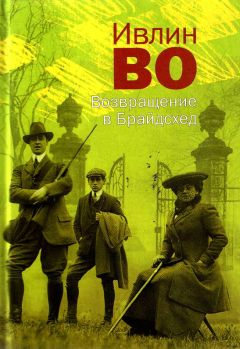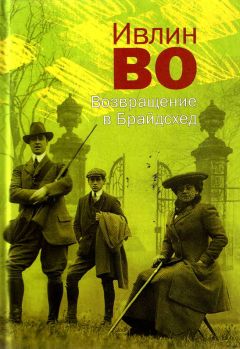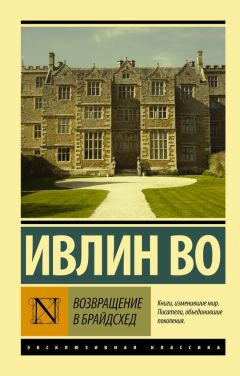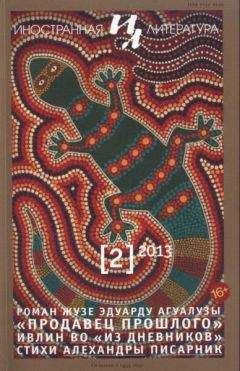Ивлин Во - Возвращение в Брайдсхед
А завтра будет еще лучше. У нас в семье живут долго и женятся поздно. Семьдесят три еще не старость. Тетя Джулия, тетка моего отца, дожила до восьмидесяти восьми, в этом доме она родилась и в нем же умерла, замуж так и не вышла, помнила, как горел огонь на Маячном мысу во время Трафальгарской битвы; этот дом у нее назывался «новый дом» — так его именовали в детской и в деревне, когда у неграмотных людей была долгая память. Где старый дом стоял, и сейчас видно— за деревенской церковью. Это место называется Замковый холм, на Хорликовом поле, там земля такая неровная, половина под пустырем, крапива да колючки, вся в ямах, не вспашешь. Выкапывали фундамент, брали камень на строительство нового дома. Новый, а ему уже сто лет было, когда тетя Джулия на свет родилась. Вот где наши корни — на изрытом пустыре под названием Замковый холм, в зарослях колючек и крапивы, среди надгробий в старой церкви и в часовне, где давно не слышно голоса причетника.
Тете Джулии были известны все надгробия — рыцарь со скрещенными ногами, граф в пышной кирасе, маркиз в тоге римского сенатора; известняк, алебастр, итальянский мрамор; она постукивала эбеновой тростью по гербам на щитах, заставляла гудеть, как колокол, шлем старого сэра Роджера. Тогда мы были рыцари, бароны после Азенкура, прочие титулы пришли с Георгами. Пришли последними и уйдут первыми, а баронство останется. Когда всех вас уже не будет на свете, сын Джулии останется жить под именем, которое его праотцы носили, когда еще не пришли тучные дни: дни стрижки овец и широких хлебных пашен; дни роста и строительства, когда осушались болота и вспахивались пустыри; когда один человек строил дом, его сын возводил над ним купол, сын сына пристраивал два крыла и ставил запруды на реке. Тетя Джулия видела, как строили фонтан; он был стар еще до того, как очутился здесь, пережил два столетия неаполитанского солнца, привезен на борту военного фрегата в нельсоновские времена. Скоро фонтан иссякнет и будет стоять, покуда его не наполнят дожди и не поплывут в бассейне прошлогодние листья, а пруды зарастут тростником. Сегодня лучше.
Сегодня мне лучше. Гораздо лучше. Я жил осмотрительно, закрывался от холодного ветра, ел умеренно пищу по сезону, пил тонкие вина, спал в собственной постели; я проживу долго. Мне было пятьдесят, когда нас спешили и отправили на передовую; старым оставаться на базе — гласил приказ; но Уолтер Винеблс, мой командир, сказал мне: «Вы, Алекс, не уступите и самым молодым». Я и не уступал и не уступаю, было бы мне только легче дышать.
Воздуха нет, ни дыханья ветерка под бархатным балдахином. Когда наступит лето, — говорил лорд Марчмейн, забывая о спелых хлебах, и сочных плодах, и о сытых пчелах, лениво летящих к улью в жарком, солнечном свете у него за окном, — когда наступит лето, я встану с постели и буду сидеть на воздухе, чтобы легче дышалось.
Кто бы подумал, что все эти золотые человечки, джентльмены в своем отечестве, смогут так долго жить не дыша. Словно жабы в угольной яме, и горя не знают. Господи спаси, зачем мне выкопали эту яму? Неужели человек должен задохнуться в собственных погребах? Плендер, Гастон! Откройте окна! Скорее!
— Все окна распахнуты, милорд.
Возле его кровати был установлен кислородный баллон с длинной трубкой, воронкой и краном, который он сам мог поворачивать. Он часто жаловался.
— Там ничего нет, сестра, посмотрите, оттуда ничего не идет.
— Идет, лорд Марчмейн, баллон полон, это видно вот здесь, по пузырьку в пробирке; давление максимальное. Слышите, как шипит? Старайтесь вдыхать медленнее, лорд Марчмейн, понемножку, не торопясь, тогда почувствуете.
— Легкий, как воздух, есть такое выражение — легкий, как воздух. А мне теперь приносят воздух в тяжелой железной бочке.
Один раз он спросил:
— Корделия, что сталось с часовней?
— Ее закрыли, папа, после маминой смерти.
— Это была ее часовня, я ей подарил. У нас в семье все были строители. Я построил ее в павильоне из старых камней, в старых стенах; это было последнее добавление к новому дому; пришло последним и первым ушло. До войны там был свой капеллан. Помнишь?
— Я была слишком маленькой.
— Потом я уехал — оставил ее молиться в часовне. Это была ее часовня. Ее место. Назад я не вернулся, не хотел мешать ее молитвам. Говорили, что мы сражаемся за свободу; я одержал свою собственную победу. Разве это преступление?
— По-моему, да, папа.
— И вы взываете к небесам об отмщении? Так вот почему, наверно, меня заточили в эту пещеру с черной трубкой, подающей воздух, и с желтыми человечками по стенам, умеющими жить не дыша? По-твоему, так, дитя? Но скоро подует ветер, быть может завтра, и нам всем станет легче дышать. Дурной, злой ветер, который принесет мне облегчение. Завтра будет еще лучше.
Так пролежал лорд Марчмейн при смерти до середины июля, растрачивая последние силы в битве за жизнь. Потом, поскольку не было причины опасаться резких перемен в его состоянии, Корделия уехала в Лондон выяснить у себя в женской организации кое-какие вопросы в связи с предстоящей «национальной опасностью». И в этот день лорду Марчмейну внезапно стало хуже. Он лежал, неподвижный и безмолвный, и мучительно, с трудом дышал, только взгляд открытых глаз, иногда перемещавшийся по комнате, свидетельствовал о том, что больной в сознании.
— Это конец? — спросила Джулия.
— Неизвестно, — ответил доктор, — конец, когда он наступит, будет, вероятно, таким же. Но от теперешнего приступа он еще может оправиться. Главное — ничем его не тревожить. Любое потрясение может быть фатально.
— Я еду за отцом Маккеем, — сказала она.
Я не удивился. Я всё лето знал, что у нее на уме. Когда она уехала, я сказал доктору:
— Мы должны помешать этой нелепице. Он ответил:
— Мое дело — заботиться о теле. А не рассуждать о том, кому лучше жить, кому умереть и что с кем будет после смерти. Я просто стараюсь, чтобы человек не умер.
— Но вы только сейчас говорили, что потрясение его убьет. Может ли быть что-нибудь вреднее для человека, который так боится смерти, чем вид приведенного к нему священника; священника, которого он выставил за дверь, когда еще был в силах?
— Я допускаю, что это может его убить.
— Значит, вы это запрещаете?
— Я не вправе запрещать что-либо. Могу только выразить мое мнение.
— Кара, а вы что думаете?
— Я не хочу, чтобы его огорчали. Только на одно сейчас еще можно надеяться — что он умрет, сам того не сознавая. Но все-таки я хотела бы, чтобы священник был здесь.
— Так постарайтесь уговорить Джулию, чтобы она его к нему не пускала до… до конца. Потом уже вреда не будет.
— Хорошо, я попрошу ее не причинять Алексу горя.
Через полчаса Джулия возвратилась с отцом Маккеем. Мы все сошлись в библиотеке.
— Я телеграфировал Брайди и Корделии, — сказал я, — надеюсь, все согласятся ничего не предпринимать до их приезда.
— Мне очень жаль, что их нет сейчас, — сказала Джулия.
— Ты не можешь одна взять на себя ответственность, — убеждал ее я. — Все остальные против тебя. Доктор Грант, скажите ей, что вы сегодня говорили мне.
— Я говорил, что вид священника вполне может его убить; в противном случае не исключено, что он оправится от этого приступа. В качестве его лечащего врача я обязан возражать против всего, что может причинить ему беспокойство.
— Кара?
— Джулия, милая, я знаю, вы хотите сделать как лучше, но ведь вы же знаете, Алекс не был религиозен. Он всегда смеялся над религией. И мы не должны теперь пользоваться его немощью для успокоения собственной совести. Если отец Маккей войдет к нему, когда он будет без сознания, это даст нам право похоронить его по закону, ведь верно, отец?
— Пойду взгляну, как он, — сказал доктор.
— Отец Маккей, — обратился я к священнику, — вы помните, как лорд Марчмейн встретил вас в прошлый раз? Неужели это возможно, по вашему мнению, чтобы он с тех пор переменился?
— Хвала богу, его милостью это возможно.
— Может быть, — предложила Кара, — вы бы вошли потихоньку, когда он спит, и произнесли над ним слова отпущения, а он и не узнал бы.
— У меня на глазах умерло так много людей, — ответил он, — и я не видел, чтобы кто-нибудь из них в последний час был огорчен моим присутствием.
— Но ведь то всё были католики, а лорд Марчмейн не был, разве только формально, по крайней мере последние годы. Он смеялся над этим, Кара сама говорила.
— Христос пришел звать к раскаянию не праведников, но грешников.
Вернулся доктор.
— Без перемен, — сказал он.
— Ну подумайте, доктор, — повернул к нему священник свое спокойное, невинное, серьезное лицо, — могу ли я вызвать у кого-нибудь потрясение? — Он обвел взглядом нас всех. — Вы знаете, что я хочу сделать? Это так немного и так просто. Я ведь даже не ношу специального облачения, иду в чем есть. Вид мой ему уже знаком. Ничто не может его испугать. Я только спрошу у него, жалеет ли он о совершенных грехах. И буду ждать от него утвердительного знака, в крайнем случае довольно будет и того, что он не скажет мне «нет»; потом я дам ему божье прощение. А затем, хотя это уже и не так обязательно, я его помажу. Это сущий пустяк, прикосновение пальцев и капли масла вот из этой баночки; смотрите, ничего не может ему повредить.