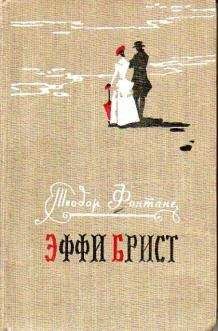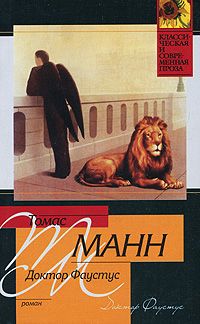Томас Манн - Доктор Фаустус
XXVII
Фаготист Грипенкерль, переписывавший партитуру «Love's Labour's Lost», отлично справился с поручением. При встрече Адриан едва ли не прежде всего сообщил мне о почти безупречной верности копии и о своей по этому поводу радости. Он показал мне также письмо, которое прислал ему поглощённый кропотливым трудом переписчик, где тот с пониманием дела и заботливостью выразил немалое восхищение объектом своих усилий. Он не может передать, сообщал он автору, как захватывает его это произведение своей смелостью и новизной. Он не устаёт восторгаться филигранностью фактуры, ритмической подвижностью, техникой инструментовки, благодаря которым сплетение голосов, часто весьма сложное, везде сохраняет абсолютную прозрачность, а в первую очередь — композиторской изобретательностью, сказывающейся в обильном варьировании основной темы; например, прекрасную и притом полукомическую музыку, связанную с образом Розалины или, вернее, передающую безнадёжную любовь к ней Бирона в заключительном акте, вклиненную в трёхчастное бурре (шутливое обновление старинной формы французского танца), можно назвать изощрённой и в высшей степени остроумной. Это бурре, добавлял он, очень характерно для шаблонно-архаичного элемента общественной косности, которому столь очаровательно, но и вызывающе противопоставлены «современные», свободные и сверхсвободные, мятежные, пренебрегающие тональными связями части произведения; он опасается только, что при всей их непривычности, при всём их еретическом фрондёрстве последние окажутся, пожалуй, доступнее для восприятия, чем вполне благочестивые и строгие места партитуры. Здесь часто налицо сухое, скорее умозрительное, чем художественное обращение с нотами, некая звуковая мозаика, музыкально едва ли эффективная, рассчитанная, по-видимому, более на читателя, чем на слушателя.
Мы засмеялись.
— Не могу слышать о слушателях! — сказал Адриан. — По-моему, вполне достаточно, если что-то услышано однажды, то есть самим композитором в процессе сочинения.
Через мгновение он прибавил:
— Как будто люди услышат, что он услышал! Сочинять музыку — значит поручить цапфенштесерскому оркестру исполнить хор ангелов. Кстати, хоры ангелов, на мой взгляд, крайне умозрительны.
Что до меня, то я не разделял мнения Грипенкерля, резко разграничившего «архаичные» и «современные» элементы оперы. Одно переходит и проникает в другое, сказал я, и Адриан согласился со мной, но не обнаружил охоты обсуждать сделанное, считая это, видимо, уже пройденным и более не интересным этапом. Куда послать партитуру, кому её предложить, он предоставил решить мне. Ему было важно, чтобы её прочитал Вендель Кречмар. Он отправил её в Любек, где заика по-прежнему служил, и тот годом позже, уже после начала войны, действительно поставил там Адрианову оперу в немецкой обработке, к которой и я приложил руку. Что касается успеха, то во время представления две трети публики покинули театр, точно так же как, кажется, шесть лет назад в Мюнхене, на премьере «Пеллеаса и Мелисанды» Дебюсси. Спектакль повторили только два раза, и произведению Адриана не удалось до поры до времени распространиться за пределами ганзейского города на Траве. Местная критика почти единодушно присоединилась к мнению некомпетентной аудитории и высмеяла «обременительную для кармана музыку», о которой позаботился господин Кречмар. Только в «Любекском биржевом курьере» один старый, ныне, несомненно, давно умерший профессор музыки, Иммерталь по фамилии, писал о судебной ошибке, которую исправит время, и в кудрявых, старомодных оборотах объявил оперу долговечным произведением, исполненным глубокой музыки, автор коей хотя и насмешник, но «человек богомудрый». Эта трогательная характеристика, никогда не встречавшаяся мне ни дотоле, ни после того ни в устной, ни в письменной речи, произвела на меня необыкновенное впечатление, и так как я до сих пор не забыл проницательного оригинала, ею воспользовавшегося, то думаю, что и потомки, которых он призвал в свидетели, споря со своими косными и тупыми собратьями по перу, поставят ему её в заслугу.
В ту пору, когда я приехал во Фрейзинг, Адриан был занят сочинением нескольких песен и больших вокальных пьес — немецких и иноязычных, точнее говоря — английских. Прежде всего он вернулся к Вильяму Блейку и положил на музыку одно очень странное стихотворение этого любимого своего автора, «Silent, silent night»[124], те четыре строфы, с тремя рифмующимися между собой строчками в каждой, где последний куплет, весьма удивительный, гласит:
But an honest joy
Does itself destroy
For a harlot coy[125].
Эти таинственно непристойные стихи гармонизованы композитором предельно просто, что на фоне музыкального языка целого придало им ещё большую «неправильность», сумбурность, жуткость, чем та, которая слышалась в дерзновенно напряжённейших, поистине необычайных трезвучиях. «Silent, silent night» написано для фортепьяно и голоса. Зато два гимна Китса — «Ode to a nightingale»[126] в восьми строфах и более короткий «К меланхолии» — Адриан снабдил аккомпанементом струнного квартета, выходившим, впрочем, далеко за пределы обычного понятия «аккомпанемент». Ибо по существу речь шла о крайне изощрённой форме вариации, в которой все до единого звуки — и голоса, и четырёх инструментов — тематичны. Между партиями нигде не прерывается теснейшая связь, так что соотношение мелодии и аккомпанемента доподлинно заменено здесь соотношением непрестанно чередующихся первого и последующих голосов.
Это чудесные пьесы, а меж тем они и поныне почти немы по вине иноязычного текста. Я не мог не отметить с улыбкой глубокое чувство, с которым в «Nightingale» композитор разделяет тоску по прелестям юга, овладевшую поэтом при пении «immortal bird»[127]: ведь в Италии Адриан никогда не обнаруживал восторженной признательности утехам солнечного края, заставляющего забыть «The weariness, the fever, and the fret — Here, where men sit and hear each other groan»[128]. С музыкальной точки зрения наиболее ценной и наиболее искусной частью является, несомненно, конец — ушедшие, развеявшиеся грёзы:
Adieu! the fancy cannot cheat so well
As she is fam'd to do, deceiving elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fled is that music: «Do I wake or sleep?»[129]
Я отлично понимаю, как не терпелось музыке увенчать собой пластичную красоту этих од: не для того, чтобы сделать их совершеннее, ибо они совершенны, а для того, чтобы подчеркнуть и рельефнее оттенить их гордую, грустную прелесть, чтобы придать драгоценному мгновению каждой их мелочи большую длительность, чем та, которая отпущена тихому слову: таким, например, моментам сгущённой образности, как в третьей строфе «Меланхолии» — упоминание о «sovran shrine»[130], скрытом фатой печали даже в храме восторга и зримом только для тех, чей язык достаточно смел, чтобы раздавить о нежное нёбо гроздья веселья. Это просто блестяще и едва ли подлежит усилению музыкой. Может быть, замедляюще вторя словам, она только старается их не испортить. Я часто слыхал, что стихотворению нельзя быть слишком хорошим, чтобы получилась хорошая песня. Музыка гораздо уместнее там, где нужно позолотить посредственное. Блеск виртуозного актёрского мастерства ярче всего в плохих пьесах. Однако отношение Адриана к искусству было слишком гордым и слишком критичным, чтобы он вздумал освещать своим светом потёмки. Как музыканта его мог привлечь только материал, внушавший ему настоящее духовное уважение, поэтому и немецкое стихотворение, творчески его захватившее, было самого высокого ранга, хотя и не обладало интеллектуальными достоинствами китсовской лирики. Литературная изысканность возмещалась здесь более монументальным строем, выспренним и клокочущим пафосом религиозно-гимнического славословия, который своими призывами и живописаниями величия и кротости, пожалуй, даже больше импонировал музыке и откровеннее к ней стремился, чем эллинское благородство упомянутых британских созданий.
Ода Клопштока «Весенний праздник», его знаменитая песнь о «Капле на ведре», с небольшими купюрами, — вот на какой текст сочинил Леверкюн пьесу для баритона, органа и струнного оркестра, — потрясающее произведение, которое во время первой немецкой мировой войны и несколько лет после неё, встречая восторженные похвалы меньшинства, но, разумеется, и крохоборчески злобные поношения, исполнялось мужественными и любящими новую музыку дирижёрами во многих музыкальных центрах Германии, а также в Швейцарии, и весьма способствовало тому, что уже в двадцатые годы, никак не позднее, имя моего друга стало приобретать ореол эзотерической славы. Замечу, однако, следующее: как ни тронул меня — хотя он теперь и не был для меня неожиданным — этот религиозный порыв, казавшийся особенно чистым и благочестивым благодаря воздержанию от дешёвых эффектов (отсутствие звуков арфы, хотя их прямо-таки подсказывает текст; отказ от литавр для передачи грома господня); как ни задевали меня за живое известные красоты, достигнутые ни в коей мере не приевшейся звуковой живописью или великолепные откровения хвалебной песни, вроде, например, томительно медленного полёта чёрной тучи и грома, дважды возглашающего «Иегова!», когда «лес курится поверженный» (прекрасное место!), или полного ликующей новизны слияния высоких регистров органа со смычковыми в конце, когда божество является не в буре, а в тихом шелесте, «с мирной радугой», — я всё же не понял тогда истинного душевного смысла этого произведения, его сокровеннейших целей, его страха, ищущего милости в хвале. Разве я знал о документе, известном теперь и моим читателям, о записи «диалога» в каменном зале? Только условно мог бы я тогда назвать себя, пользуясь выражением из «Оды к меланхолии», «a partner in your sorrow's mysteries»[131] по отношению к Адриану: только по праву давней, идущей ещё от времён детства неясной тревоги за его душевный покой, но отнюдь не зная действительного положения вещей. Лишь позднее я увидел в «Весеннем празднике» задабривающую, искупительную жертву богу, каковой и было оно, это произведение attritio cordis, созданное, как я с дрожью предполагаю, под угрозами того самого, настаивавшего на своей реальности посетителя.