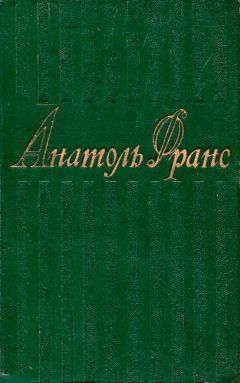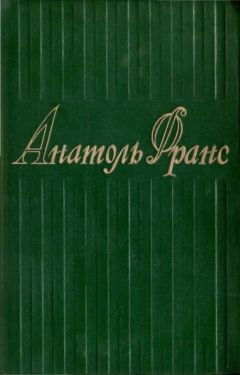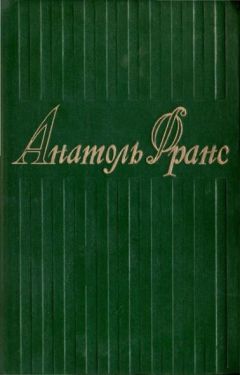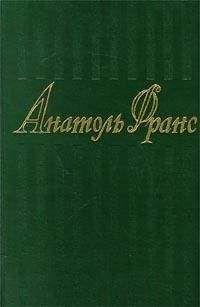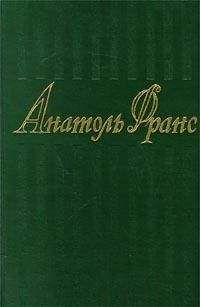Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
Аббат ответил, что из книг составил себе кое-какое представление о сем предмете, но, по его мнению, занятие алхимией злокозненно и противоречит святой вере. Г-н д'Астарак улыбнулся его словам.
— Вы, господин Куаньяр, человек сведущий и бесспорно слышали и про Летающего Орла, и про Птицу Гермеса, и про Курицу Гермогена, и про Голову Ворона, и про Зеленого Льва, и про Феникса.
— Слышал, — подтвердил мой добрый учитель, — и знаю, что именами этими называют философский камень в различных его состояниях. Однако ж сомневаюсь, чтобы с помощью его можно было превращать металлы.
На это г-н д'Астарак хладнокровно ответствовал:
— Нет ничего легче, чем положить конец вашим сомнениям, сударь.
Он открыл старенький колченогий поставец, прислоненный к стене, вынул оттуда медную монету с изображением нашего покойного государя и указал на круглое пятно, видимое и с орла и с решки.
— Таково, — промолвил он, — воздействие камня, с помощью коего медь превращена в серебро. Но это лишь детская забава.
Вновь повернувшись к поставцу, он достал оттуда сапфир величиной с куриное яйцо, затем необыкновенно крупный опал и горсть изумрудов редчайшей красоты.
— Перед вами, — заключил он, — кое-какие плоды моих трудов, доказывающие со всей убедительностью, что искусство алхимии отнюдь не игра праздного ума.
На дне ларчика, где хранились драгоценные каменья, лежало с полдюжины крошечных алмазов, о которых г-н д'Астарак даже не упомянул. Добрый мой наставник обратился к нему с вопросом, не его ли искусству обязаны эти алмазы своим появлением на свет, и, получив подтверждение, воскликнул:
— Осмелюсь, сударь, посоветовать вам, благоразумия ради, показывать первым долгом эти розочки. Ежели вы сначала предъявите сапфир, опал и рубин, каждый справедливо заключит, что подобные камни могут быть творением одного лишь дьявола, и вас притянут к суду по обвинению в колдовстве. В равной мере один лишь дьявол способен благоденствовать среди этих горнов огнедышащих. Что касается меня, то, пробыв здесь всего четверть часа, я уже наполовину изжарился.
Господин д'Астарак снисходительно улыбнулся и, провожая нас к выходу, повел такую речь:
— Досконально зная, как надлежит мне относиться к вопросу о подлинном существовании дьявола и того, другого, я охотно беседую об этом предмете с верующими людьми. Оба они — дьявол и тот, другой, как говорится, характеры собирательные; и, следовательно, о них можно рассуждать, как, скажем, об Ахилле и Терсите. Будьте благонадежны, милостивые государи, ежели дьявол таков, каким мы его себе представляем, он не может жить в столь деликатной стихии, как огонь. Величайшая из нелепостей предоставить солнце в распоряжение столь зловредной твари. Но я, господин Турнеброш, уже имел честь объяснить капуцину вашей матушки, что христиане, по глубокому моему убеждению, клевещут на сатану и на демонов, хотя почти и непостижимо, что где-то в мире, нам неведомом, обитают существа еще более злобные, чем люди. И конечно же, ежели они существуют, они населяют края, лишенные света, и если пылают, то лишь среди льдов, которые, как известно, своим прикосновением причиняют жгучую боль, а отнюдь не среди славного пламени в окружении пылких звездных дев. Да, они страдают, ибо исполнены злобы, а злоба — это своего рода болезнь, но страдают они только от жестокого холода. Что же до вашего сатаны, этого жупела богословов, я, господа, не склонен, судя по вашим же рассказам, считать его существом презренным, и ежели по случайности он действительно есть, в моих глазах он не мерзопакостная тварь, а маленький сильф или, если угодно, гном-рудознатец, пусть даже насмешник, зато умница.
Мой добрый учитель закрыл ладонями уши и пустился в бегство, не желая слушать дальше.
— Какое безбожие, — воскликнул он, очутившись на лестнице, — какое богохульство! Турнеброш, сын мой, уловил ли ты всю мерзость изречений нашего философа? К моему изумлению, он доводит неверие до какого-то лихого неистовства. Но как раз это-то и снимает с него почти все бремя вины. Ибо, отринув всяческую веру, он, естественно, не оскверняет догматы святой церкви, как тот, кто связан с нею своей пуповиной, уже полуоторванной, но еще кровоточащей. Таковы, сын мой, лютеране и кальвинисты, от разрыва коих со святой церковью остается не просто рубец, а гнойная рана. Безбожники в противовес им губят лишь свою собственную душу, и не совершает греха тот, кто делит с ними трапезу. Посему не будем плакаться на свое пребывание у господина д'Астарака, не верящего ни в бога, ни в дьявола. А заметил ли ты, Турнеброш, сын мой, на дне ларчика горсточку мелких алмазов: похоже, что он сам не ведает им счета, мне же они показались чистой воды. Вот опал и сапфиры, те что-то подозрительны. Бриллианты же совсем как настоящие.
Добравшись до наших покоев, мы с аббатом пожелали друг другу мирных снов.
* * *
До самой весны мы с добрым моим наставником вели жизнь размеренную и уединенную. Каждое утро, удалившись в галерею, мы занимались вплоть до обеда, после чего возвращались обратно, — в театр, говоря словами г-на Жерома Куаньяра; но не для того, пояснял сей превосходный муж, чтобы подобно дворянам и лакеям рукоплескать скабрезным сценам, а дабы услышать возвышенные, пусть и противоречивые, диалоги древних авторов.
Не удивительно, что при таком образе жизни чтение и перевод Зосимы Панополитанского продвигались с быстротой поистине чудесной. Моей заслуги тут не было. Подобный труд превосходил мои скромные познания, но я довольствовался уж тем, что научился разбирать греческие буквы в том виде, в каком изображают их на египетских папирусах. Все же я помогал моему наставнику, обращаясь за необходимыми справками к тем авторам, которыми он руководствовался в своих разысканиях, и, в первую очередь, к Олимпиодору и Фотию[134], благодаря чему я изучил их на зубок. Мелкие эти услуги значительно возвысили меня в собственном мнении.
После суровой и долгой зимы я уже твердо вступил на стезю учености, но вдруг пришла весна в своем щегольском наряде, сотканном из потоков света, нежной листвы и птичьих трелей. Аромат сирени, вливавшийся в окна библиотеки, навевал смутные мечты, от которых меня внезапно пробуждал голос доброго моего наставника:
— Жако Турнеброш, будь столь любезен, взберись-ка на лестницу и скажи, не пишет ли чего этот мошенник Манефон[135] о боге Имхотепе, который своими противоречиями мучает меня как дьявол?
И мой добрый наставник с довольным видом забивал себе в обе ноздри понюшку табака.
— Сын мой, — говорил он еще, — примечательно то, что одежда изрядно воздействует на наше нравственное состояние. С той поры, как моя ряса испещрена пятнами, каковые оставили пролитые мною соуса, я ощущаю себя уже не столь порядочным человеком. И неужели, Турнеброш, теперь, когда ваш костюм под стать маркизу, вас не подмывает присутствовать при туалете оперной дивы и проиграть в фараон пяток червонцев, короче, разве не чувствуете вы себя человеком знатным? Не истолкуйте худо моих слов и заметьте, что достаточно нацепить каску на отъявленного труса, как ему уже не терпится поскорее сложить голову на королевской службе. Наши чувства, Турнеброш, образуются под воздействием сотен мелочей, которых мы не замечаем именно в силу их малости, и судьба бессмертной нашей души зависит подчас от дуновения столь легкого, что под ним не согнется и травинка. Мы, человеки, — игралище ветров. Однако ж передайте мне, пожалуйста, «Начала» Фоссия, я вижу их отсюда, вон красные обрезы сияют под вашей левой рукой.
В тот день, после трапезы, происходившей по обыкновению в три часа, г-н д'Астарак пригласил меня и доброго моего учителя пройтись по парку. Он привел нас в западную часть, примыкающую к Рюэлю и Мон-Валерьену. То был самый отдаленный и самый запущенный уголок его владений. Аллеи поросли плющом и травой, дорогу нам то и дело преграждали стволы поваленных бурей дерев. Стоявшие вдоль аллеи мраморные статуи кокетливо улыбались, не подозревая о своем увечье. Здесь нимфа подносила к устам несуществующую более руку, призывая пастушка к скромности. Там юный фавн, с отбитой головой, валявшейся в траве, все еще пытался приложить к губам звонкую свою флейту. И эти божественные создания как бы преподали нам урок презрения к жестокости времени и судеб. Мы шли вдоль канавы, наполненной дождевой водой, где искали корма лягушки. Вокруг лужайки возвышались наклонные чаши, где утоляли свою жажду горлинки. Отсюда мы свернули на узкую тропинку, проложенную прямо среди кустов.
— Ступайте осторожнее, — предупредил нас г-н д'Астарак. — Эта тропинка опасна тем, что вдоль нее растут мандрагоры[136], которые с наступлением ночи поют у подножья дерев. Мандрагоры эти скрыты в земле. Остерегайтесь наступить на них: вами овладеет любовное томление или жажда наживы, и тогда вы погибли, ибо страсти, внушенные мандрагорой, сродни печали.