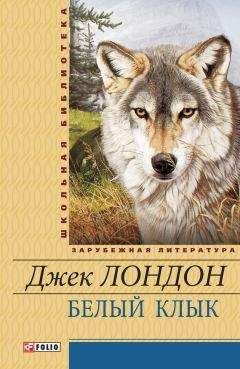Джек Лондон - Маленькая хозяйка Большого дома. Храм гордыни
— Сомневаюсь. Это — счастливый день в ее жизни. Она из Кауаи. Отец ее — скотина. Теперь, заболев проказой, она едет к матери в колонию. Мать попала туда три года назад — очень тяжелый случай.
— Не всегда можно судить по внешности, — сказал мистер Маквей. — Видите вон того крупного парня, такого на вид здорового и цветущего? Случайно я узнал, что у него открытая язва на ноге и такая же на плече. Есть и другие… Посмотрите на руку девушки, которая курит сигарету. Пальцы у нее искривлены и онемели. Вы можете их отрезать тупым ножом или растереть теркой для мускатного ореха, а она решительно ничего не почувствует.
— Да, но неужели вон та красивая женщина тоже заражена? — воскликнул я. — Такая цветущая и очаровательная.
— Печальный случай, — бросил через плечо мистер Маквей, поворачиваясь, чтобы прогуляться с Керсдейлом по набережной.
Это была красивая женщина — чистокровная полинезийка. Несмотря на мои скудные познания об этой расе и ее типах, я не мог не вывести заключения, что она происходит из старинного рода вождей. Ей было не больше двадцати трех — двадцати четырех лет. Фигура ее была безупречна, лишь слегка намечались первые признаки полноты, свойственной женщинам ее расы.
— Это был удар для всех нас, — заговорил доктор Джорджес. — Она добровольно заявила о своей болезни. Никто и не подозревал. Но каким-то образом она подцепила проказу. Уверяю вас, мы все были потрясены. Добились того, чтобы в газеты это не попало. Кроме нас и ее семьи, никто не знает, что с ней случилось. Кого бы вы ни спросили в Гонолулу, любой вам скажет, что она, по-видимому, уехала в Европу. По ее просьбе мы постарались избежать огласки. Бедная девушка — такая гордая…
— А кто она? — спросил я. — Судя по тому, что вы о ней говорите, она — личность незаурядная.
— Слыхали что-нибудь о Люси Мокунуи? — спросил он.
— Люси Мокунуи? — повторил я, силясь припомнить; потом покачал головой. — Как будто слыхал это имя, но не могу вспомнить.
— Не слыхали о Люси Мокунуи? Гавайском соловье? Виноват, ведь вы — малахини[8]; откуда же вам знать. Да, Люси Мокунуи была любимицей Гонолулу — нет, всего острова!
— Вы говорите — была? — перебил я.
— Вот именно. Теперь она — конченый человек. — Он сочувственно пожал плечами. — Двенадцать хаолес, виноват — белокожих, были не на шутку в нее влюблены. Обычных поклонников я не считаю. Эти двенадцать были люди с положением и весом. Стоило ей пожелать, и она могла бы выйти замуж за сына верховного судьи. Вы говорите, она красива? А послушали б вы, как она поет! Лучшая туземная певица на Гавайях. Горло у нее — из чистого серебра и солнечных лучей. Мы ее обожали. Сначала она сделала турне по Америке с королевским гавайским оркестром. Затем два раза ездила одна — давала концерты.
— А! — воскликнул я. — Припоминаю. Два года назад я слышал ее в Бостоне. Так это она! Теперь я ее узнал.
И гнетущая тоска захлестнула меня. Жизнь в лучшем случае — бессмысленна. Прошло каких-нибудь два года, и это великолепное создание, стоявшее на вершине успеха, очутилось среди прокаженных, ждавших отправки на Молокаи. Мне вспомнились две строчки Генли:
Жалкий бродяга старые язвы свои открывает,
И позорной ошибкой мне кажется жизнь.
Я содрогнулся при мысли о своем будущем. Если такая страшная судьба постигла Люси Мокунуи, так что же выпадет на мою долю? Или на чью-то из нас? Я прекрасно знал, что в жизни нас подстерегает смерть, но… жить среди живых мертвецов, умереть и не быть мертвым, стать одним из тех жалких созданий, какие были некогда мужчинами и женщинами, похожими, быть может, на Люси Мокунуи, воплощавшую все чары Полинезии, на нее — артистку и покорительницу мужчин… Боюсь, что мне не удалось скрыть волнения, так как доктор Джорджес поспешил меня заверить, что прокаженным живется хорошо в колонии.
Все это было чудовищно. Я не в силах был смотреть на нее. На некотором расстоянии от нас, за протянутой веревкой, которую охранял полисмен, столпились родственники и друзья прокаженных. Им не разрешалось подходить близко. Не было ни объятий, ни прощальных поцелуев. Они перекликались, выкрикивали последние поручения, последние слова любви, последние наставления. А те, что стояли за веревкой, смотрели жутко напряженно. В последний раз они глядели на лица своих любимых — те были живыми мертвецами, и на погребальном корабле их отправляли на кладбище Молокаи.
Доктор Джорджес распорядился, и жалкие создания с трудом поднялись на ноги и, шатаясь под тяжестью своей поклажи, побрели через плашкоут на борт парохода. То была погребальная процессия. Оставшиеся за веревкой сразу подняли вой. Кровь стыла в жилах, сердце сжималось от жалости. Таких рыданий я еще не слыхал и, надеюсь, никогда больше не услышу. Керсдейл и Маквей все еще стояли в стороне, очень серьезно разговаривая, — о политике, конечно, ибо оба с головой ушли в эту игру. Когда Люси Мокунуи проходила мимо меня, я украдкой взглянул на нее. Да, она была красива — красива даже с нашей точки зрения — один из тех редких цветов, какие расцветают раз в столетие. И она — первая среди всех женщин — обречена была на тюрьму Молокаи. Словно королева, она прошла по плашкоуту прямо на борт и на корму — туда, где на открытой палубе столпились у перил прокаженные и, рыдая, смотрели на своих близких на берегу.
Канаты были отданы, и «Носау» стал медленно отчаливать от пристани. Рыдания усилились. Сколько горя и отчаяния! Не успел я принять решения никогда больше не присутствовать при отплытии «Носау», как вернулись Маквей и Керсдейл. У Керсдейла глаза блестели, а губы невольно складывались в веселую улыбку. Видимо, разговор о политике доставил ему удовольствие. Веревку отцепили, и рыдающие родственники столпились на пристани, там же, где стояли мы.
— Вот ее мать, — шепнул доктор Джорджес, указывая на старуху, стоявшую подле меня. Она раскачивалась взад и вперед и распухшими от слез глазами глядела на пароход. Я заметил, что Люси Мокунуи тоже плачет. Но вдруг рыдания ее прекратились — она взглянула на Керсдейла. Простерла руки — этот очаровательный чувственный, словно обнимающий аудиторию жест я видел у Ольги Нетерсоль — и крикнула:
— Прощай, Джек! Прощай!
Он услышал и оглянулся. Я никогда не видел человека, охваченного таким страхом. Он зашатался, побелел до корней волос, как будто осел и съежился. Всплеснул руками и простонал: «Боже мой, Боже мой!», затем страшным усилием воли сдержал себя и крикнул:
— Прощай, Люси! Прощай!
Он стоял на пристани и махал ей руками, пока не увеличилось расстояние, отделявшее его от парохода, и не стерлись лица людей, столпившихся у перил.
— Я думал, вы знаете, — сказал Маквей, поглядевший на него с любопытством. — Кому-кому, а уж вам следовало бы знать. Я думал, вы потому и пришли сюда.
— Теперь знаю, — очень серьезно ответил Керсдейл. — Где экипаж?
Быстро, почти бегом он двинулся к экипажу. Чтобы не отстать, я тоже должен был чуть ли не бежать.
— К доктору Герви, — сказал он кучеру. — Поезжай как можно скорее.
Запыхавшись, он опустился на сиденье. Бледность все увеличивалась. Губы его были плотно сжаты, пот выступил на лбу и верхней губе. Казалось, он испытывает страшные муки.
— Ради Бога, гони лошадей, Мартин! — крикнул он вдруг. — Полосни их кнутом! Слышишь? Хлестни хорошенько!
— Они понесут, сэр, — возразил кучер.
— Ну и пусть, — ответил Керсдейл. — Я заплачу за тебя штраф и улажу дело с полицией. Гони их! Вот так. Быстрей, быстрей!
— А я и не знал, не знал, — бормотал он, снова опускаясь на сиденье и дрожащими руками вытирая пот.
Экипаж подпрыгивал, раскачивался, кренился на поворотах, и разговаривать было совершенно невозможно. Да и не о чем было говорить. Но я слышал, как он все время бормотал:
— А я и не знал, не знал…
«Алоха Оэ»
Нигде не провожают так пароходы, как в гавани Гонолулу. Большой транспорт стоял под парами, готовый к отплытию. Около тысячи человек толпились на палубе, и пять тысяч — на набережной. По длинному шкафуту проходили взад и вперед туземные принцы и принцессы, сахарные короли и высокопоставленные лица страны. Позади длинными вереницами выстроились, по приказанию туземной полиции, экипажи и автомобили аристократии Гонолулу. На пристани королевский гавайский оркестр играл «Алоха Оэ», а когда он умолк, струнный оркестр туземных музыкантов на борту транспорта подхватил те же рыдающие звуки, и голос туземной певицы взлетел над рыданием инструментов и суматохой прощания. То была серебряная свирель, чистой нотой прорезавшая воздух.
На носу, на нижней палубе, у перил выстроились в шесть рядов молодые люди в хаки; их бронзовые лица свидетельствовали о трехлетнем пребывании под тропическим солнцем. Но не в честь их устроены были проводы и не в честь одетого в белое капитана на мостике, далекого, как звезды, и глядевшего вниз на сутолоку под ним. Не имели отношения к проводам и молодые офицеры, возвращавшиеся с Филиппинских островов, и их бледные истощенные климатом жены, стоявшие рядом. На палубе, сейчас же за шкафутом, стояли сенаторы Соединенных Штатов — их было человек двадцать — с женами и дочерьми. То была развлекающаяся сенаторская компания, которую в течение месяца пичкали обедами и винами, угощали статистикой, таскали на вулканическую гору и вниз, в долину, залитую лавой, показывая все красоты и богатства Гавайев. Для этой веселой компании был вызван в Гонолулу транспорт, и с ней прощался Гонолулу.