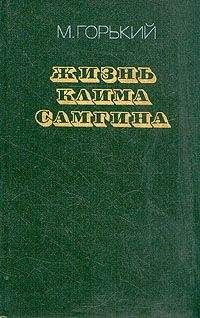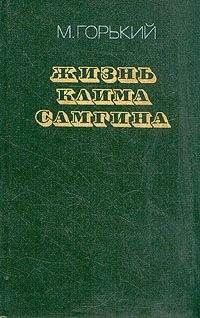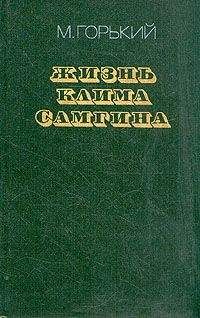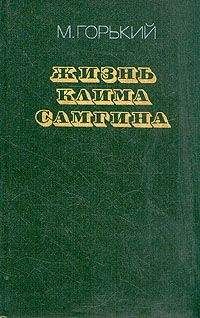Максим Горький - Жизнь Клима Самгина. "Прощальный" роман писателя в одном томе
Он тоже начал смеяться, вначале неуверенно, негромко, потом все охотнее, свободней и наконец захохотал так, что совершенно заглушил рыдающий смешок Лютова. Широко открыв волосатый рот, он тыкал деревяшкой в песок, качался и охал, встряхивая головою:
— Ох, осподи… о-хо-хо, грехи жа, ей-богу… Мокрый, он весь лоснился, и казалось, что здоровый хохот его тоже масляно блестит.
— Ж-жулик, — кричал Лютов. — Где… где сом?
— И — я его…
— Сома?
— Промахнулся…
— Где сом?
— Он — живет…
Снова оба, глядя друг на друга, тряслись в припадке смеха, а Клим Самгин видел, что теперь по мохнатому лицу хромого льются настоящие слезы.
— Ну, уж это нечто… чрезмерное, — сказал Туробоев, пожимая плечами, и пошел прочь, догоняя девушек и Макарова. За ним пошел и Самгин, провожаемый смехом и оханьем:
— О, осподи, вот…
А впереди возмущенно кричала Алина:
— Его следует наказать за обман!
— Это — глупо, Алина, — строго остановила ее Лидия.
Пошли молча, но скоро их догнал Лютов.
— Понимаете вещь? — кричал он, стирая платком с лица пот и слезы, припрыгивая, вертясь, заглядывая в глаза. Он мешал идти, Туробоев покосился на него и отстал шага на два.
— Ловко одурачил, а? — назойливо кричал он. — Талант. Искусство-с! Подлинное искусство всегда одурачивает.
— Не глупо, — сказал Туробоев, улыбаясь Климу. — И вообще он — не глуп, но — как издерган!
— Довольно, Володя, — сердито крикнул Макаров. — Что ты пылишь? Подожди, когда сделают тебя профессором какой-нибудь элоквенции, тогда и угнетай и пыли.
— Костя, легкомысленная ты птица! Пойми вещь!
— Нет, серьезно, перестань.
— Вы ужасно много кричите, — жалобно сказала Алина.
— Ну — не буду.
— Как сумасшедший.
— Молчу-с!
Он действительно замолчал, но Лидия, взяв его под руку, спросила:
— Почему вас не возмутил мужик?
— Меня? Чем же? — удивленно и с жаром воскликнул Лютов. — Напротив, Лидочка, я ему трешницу прибавил и спасибо сказал. Он — умный. Мужик у нас изумительная умница! Он — учит! Он?
Приостановясь, гладя руку Лидии, лежавшую на сгибе его руки, Лютов счастливо улыбнулся:
— Уж теперь ведь в сома-то вы не поверите, нет? Не для сомов эта речушка, милый вы человек…
Он снова захохотал. Макаров и Алина пошли быстрее. Клим отстал, посмотрел на Туробоева и Варавку, медленно шагавших к даче, и, присев на скамью у мостков купальни, сердито задумался.
Он вспомнил, что вчера Макаров, мимоходом, сказал:
«Здоровая психика у тебя, Клим! Живешь ты, как монумент на площади, вокруг — шум, крик, треск, а ты смотришь на все, ничем не волнуясь».
«Но эти слова говорят лишь о том, что я умею не выдавать себя. Однако роль внимательного слушателя и наблюдателя откуда-то со стороны, из-за угла, уже не достойна меня. Мне пора быть более активным. Если я осторожно начну ощипывать с людей павлиньи перья, это будет очень полезно для них. Да. В каком-то псалме сказано: «ложь во спасение». Возможно, но — изредка и — «во спасение», а не для игры друг с другом».
Он долго думал в этом направлении и, почувствовав себя настроенным воинственно, готовым к бою, хотел идти к Алине, куда прошли все, кроме Варавки, но вспомнил, что ему пора ехать в город. Дорогой на станцию, по трудной, песчаной дороге, между холмов, украшенных кривеньким сосняком, Клим Самгин незаметно утратил боевое настроение и, толкая впереди себя длинную тень свою, думал уже о том, как трудно найти себя в хаосе чужих мыслей, за которыми скрыты непонятные чувства.
Домой он приехал на полчаса раньше супругов Спивак.
Мать встретила их величественно, как чиновников, назначенных свыше в ее личное распоряжение. Суховато и очень в нос говорила французские фразы, играя лорнетом пред своим густо напудренным лицом, и, прежде чем предложить гостям сесть, удобно уселась сама. Клим подметил, что этой игрой мать зажгла в голубоватых глазах Спивак смешливые искорки. Елизавета Львовна в необыкновенно широкой темной мантии казалась постаревшей, монашески скромной и не такой интересной, как она была в Петербурге. Но его ноздри приятно защекотал запах знакомых духов, и в памяти прозвучала красивая фраза:
Тобой, одной тобой.
Маленький пианист в чесунчовой разлетайке был похож на нетопыря и молчал, точно глухой, покачивая в такт словам женщин унылым носом своим. Самгин благосклонно пожал его горячую руку, было так хорошо видеть, что этот человек с лицом, неискусно вырезанным из желтой кости, совершенно не достоин красивой женщины, сидевшей рядом с ним. Когда Спивак и мать обменялись десятком любезных фраз, Елизавета Львовна, вздохнув, сказала:
— Мне очень тяжело, Вера Петровна, что с первой же встречи я должна сообщить вам печальное: Дмитрий Иванович арестован.
— О, бог мой! — воскликнула Самгина, откинувшись на спинку кресла, ресницы ее вздрогнули и кончик носа покраснел.
— Да! — громко сказал Спивак. — Пришли ночью и увезли.
— А — Кутузов? — сердито спросил Клим.
Спивак ответила, что Кутузов недели за три до ареста Дмитрия уехал к себе домой, хоронить отца.
Мать, осторожно, чтоб не стереть пудру со щек, прикладывала ко глазам своим миниатюрный платочек, но Клим видел, что в платке нет нужды, глаза совершенно сухи.
— Боже мой! За что? — драматически спросила она.
— Я думаю, что это не серьезно, — очень ласково и утешительно говорила Спивак. — Арестован знакомый Дмитрия Ивановича, учитель фабричной школы, и брат его, студент Попов, — кажется, это и ваш знакомый? — спросила она Клима.
Самгин сухо сказал:
— Нет.
Уделив этому событию четверть часа, мать, очевидно, нашла, что ее огорчение выражено достаточно убедительно, и пригласила гостей в сад, к чаю.
Весело хлопотали птицы, обильно цвели цветы, бархатное небо наполняло сад голубым сиянием, и в блеске весенней радости было бы неприлично говорить о печальном. Вера Петровна стала расспрашивать Спивака о музыке, он тотчас оживился и, выдергивая из галстука синие нитки, делая пальцами в воздухе маленькие запятые, сообщил, что на Западе — нет музыки.
— Там — только машины. Там — от менуэта и гавота дошли — вот до чего…
И пальцами на губах он сыграл какой-то пошленький мотив.
— Не тереби галстук, — попросила его жена. Он послушно положил руки на стол, как на клавиатуру, а конец галстука погрузил в стакан чая. Это его сконфузило, и, вытирая галстук платком, он сказал:
— В Норвегии — Григ. Очень интересен. Говорят — рассеянный человек.
И замолчал. Женщины улыбались, беседуя все более оживленно, но Клим чувствовал, что они взаимно не нравятся одна другой. Спивак запоздало спросил его:
— Как ваше здоровье?
А когда Клим предложил ему земляники, он весело отказался:
— От нее у меня будет крапивная лихорадка. Мать попросила Клима:
— Покажи Елизавете Львовне флигель.
— Странный город, — говорила Спивак, взяв Клима под руку и как-то очень осторожно шагая по дорожке сада. — Такой добродушно ворчливый. Эта воркотня — первое, что меня удивило, как только я вышла с вокзала. Должно быть, скучно здесь, как в чистилище. Часто бывают пожары? Я боюсь пожаров.
Бумажный сор в комнатах флигеля напомнил Климу о писателе Катине, а Спивак, бегло осмотрев их, сказала:
— Можно очень уютно устроиться. И окна в сад. Наверное, в комнаты будут вползать мохнатенькие червячки с яблонь? Птички будут петь рано утром. Очень рано!
Она вздохнула:
— Вам не нравится? — с сожалением спросил Клим, выходя в сад, — красиво изогнув шею, она улыбнулась ему через плечо.
— Нет, почему? Но это было бы особенно удобно для двух сестер, старых дев. Или — для молодоженов. Сядемте, — предложила она у скамьи под вишней и сделала милую гримаску: — Пусть они там… торгуются.
Оглядываясь, она продолжала задумчиво:
— Прекрасный сад. И флигель хорош. Именно — для молодоженов. Отлюбить в этой тишине, сколько положено, и затем… Впрочем, вы, юноша, не поймете, — вдруг закончила она с улыбкой, которая несколько смутила Клима своей неясностью: насмешка скрыта в ней или вызов?
Посмотрев в небо, обрывая листья с ветки вишни, Спивак спросила:
— Как же здесь живут зимою? Театр, карты, маленькие романы от скуки, сплетни — да? Я бы предпочла жить в Москве, к ней, вероятно, не скоро привыкнешь. Вы еще не обзавелись привычками?