Владимир Солоухин - Последняя ступень (Исповедь вашего современника)
— Что-то такое было, но ведь я специально не изучал.
— Так и было.
— Выходит, крестьяне были настроены к немцам лучше, чем к Зое?
— Естественно. Немцы освободили их от колхозов, от большевиков, от советской власти, от дикого многолетнего произвола и насилия.
— И за это творили буквальное насилие над русскими девушками и женщинами?
— Не понимаю.
— Как же? Даже песня была: «Над чистой и гордой любовью моей немецкие псы надругались».
— За всю войну, Владимир Алексеевич, — вновь становясь серьезным и с откуда-то появившимся металлом в голосе отчеканил Кирилл, — немцами не было произведено ни одного насилия над женщинами, ни одного факта на всех наших фронтах.
— Не может быть, чепуха!
— Действовал строжайший приказ Гитлера: за насилие смерть на месте, расстрел. Ты сам понимаешь, что означал для немцев приказ Гитлера и как он исполнялся. Кроме того — зачем? Для офицеров у них были публичные дома, а солдатам делали время от времени специальные уколы.
— А как же — столько писали… Немцы — насильники…
— Надо было писать, чтобы разжечь ненависть. Возьми газеты того времени, посмотри, что писалось, например, о взятии немцами Ялты. Ворвались, начали хватать людей, стрельба, крики, повальные аресты. А Вергасов (уж он ли не крымский партизан!) однажды, когда разговорились искренне, в минуту, когда несмотря ни на что понимается сладость правды, мне вдруг сказал:
— Знаешь, как была взята Ялта на самом деле? Около большого платана остановились три немецких танка. Из них выскочили танкисты и побежали к воде купаться. На заборах вскоре появились объявления, что вечером в городском саду под военный оркестр будут танцы. Все.
Но, конечно, если бы во время танцев какой-нибудь смертник вроде Зои Космодемьянской бросил бы в оркестр гранату, наверное, немцы начали бы репрессии, обыски, облавы.
В нормальной же обстановке они вылавливали только людей двух категорий: евреев и коммунистов, то есть пытались освободить народ от тех, кто, как мы понимаем теперь, держит его вот уж столько лет под чудовищным гнетом. Помнишь, как там стишки у Павла Когана:
Жиды и коммунисты, шаг вперед!
Я выхожу. В меня стреляйте дважды.
Слово «стреляйте» Кирилл произнес с таким неподражаемым еврейским грассированием, что нельзя было не улыбнуться, несмотря на столь патетический момент.
— Ну вот. А ненависть надо было разжигать. Когда немцы заняли Киев, мы взорвали заранее заминированный древний величественный Успенский собор в Киево-Печерской лавре, дабы свалить этот взрыв на немцев и разжечь ненависть к ним у верующего населения. Нам-то собор разве жалко? Всего ведь за семь лет перед этим в Киеве взорвали златоверхий Михайловский монастырь четырнадцатого века с византийскими мозаиками и тысячи других соборов во всех городах России. Что нам собор?!
Напротив, куда приходили немцы, всюду тотчас открывались церкви, если, конечно, уцелели церковные здания.
— Да как же? Я был в Киеве, был в лавре. Экскурсовод объясняла людям, что собор взорвали именно немцы.
— Неужели она будет говорить теперь, что собор взорван нами самими? А схему узнаете? Это те же поджоги Зои Космодемьянской. Создать беспорядок в тылу, недовольство и возмущение. Так это еще что! Могу познакомить тебя с человеком, который точно знает следующие факты. Отряды Берия, переодетые в немецкую форму, высаживались десантом в горных аулах Северного Кавказа и начисто вырезали всех горцев, насиловали женщин, отрезали им груди, распарывали животы, всячески зверствовали. Таков был приказ. Чтобы возбудить ненависть горцев к немцам. К тем, кто шел освобождать их от прекрасной советской власти. Между прочим… Нет прямых указаний, потому что не осталось свидетелей, кроме одного запуганного, чудом спасшегося старика, да и тот, наверное, теперь уж умер. Но подозреваю, что и Хатынь сожжена тоже отрядами Берия. Уж очень похожий почерк. Никто ведь не видел, как жгли Хатынь. Не осталось свидетелей. Надо же так чисто сработать! И какой дальний получился прицел: до сих пор Хатынь вопиет, разжигает, возмущает и агитирует.
— А если бы немцы завевали нашу страну, что бы они с ней сделали?
— Они бы, вероятно, восстановили династию. Посадили бы на трон наследника, который живет сейчас в Испании, потомка Дома Романовых. Конечно, он был бы зависим от Берлина в какой-то степени. Может быть, на первых порах и в большой степени. Ну, как теперь зависят от Москвы Живков и Герек, Гусак и Кадар. Как зависел в какой-то степени от Берлина венгерский Хорти, румынский Антонеску, норвежский Квислинг, французский Петен.
— Но послушай… Как можно в таком тоне говорить о Гитлере? Ведь гестапо, СС…
— У каждого государства есть полиция, и поверь мне, это не санатории. Ты думаешь, если можно было бы измерить какой нибудь мерой всю жестокость, которая была проявлена гестапо, и всю жестокость, которая была проявлена ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, да, пожалуй, только одной ЧК, и потом сопоставить эти две цифры, как ты думаешь, какая цифра бы перевесила? Кроме того, мы сидим сейчас, разговариваем, Гитлера уже нет и гестапо нет, но все равно в эти минуты во многих точках земного шара пытают и мучают людей. Только мы не слышим их криков и не чувствуем их страданий. Молчит о них и всемирная массовая информация. О гитлеровском гестапо она кричала. Вот мы и наслышаны теперь и вздрагиваем при этом слове.
— Но вообще, как можно переоценивать эти ценности? Что же делать тогда с миллионами жертв Отечественной войны? Ведь они стояли насмерть, героически. Они сейчас встанут все и сотрут нас с тобой в порошок за подобные разговоры! Ты вспомни, сколько страданий и мук принял народ в последней войне!
— Соболезную, Владимир Алексеевич, плачу вместе с тобой. У меня у самого отец и мать, и вообще все родственники погибли в эту войну. Сам принял все муки, едва уцелел. Если бы подоспел годами, сам оказался бы на фронте и, конечно, погиб бы по своему характеру, высунувшись вперед… Согласен, что чудеса героизма проявляли наши солдаты, что неправдоподобные муки принял наш народ, и все же буду стоять на своем: защищали бандита, людоеда и кровопийцу Сталина, защищали самый жестокий и бесчеловечный режим.
— Защищали свою страну, свой дом.
— Ну да. В дом забрались разбойники, хозяев дома превратили в своих слуг, в работников, в рабов, сами процветают и руководят. Хозяева как-то даже и привыкли к своему новому положению. Ладно, жить можно. Как-никак крыша над головой, как-никак харч, паек. А то, что лучшие горницы заняты, иконы из переднего угла повыброшены, могилы предков переворошены, работать приходится почти бесплатно, и все богатства неизвестно куда уходят — ладно. Живы — и слава Богу. И вот когда соседи идут прогнать и даже уничтожить наглых захватчиков, коренные обитатели вдруг вспоминают: дом-то все-таки наш! Давай защищать родной дом. А вместе с ним и разбойников. И проявляется неслыханный героизм при защите дома. И разбойники их подначивают на защиту уж тем самым, за что убивали лет двадцать назад. Вспомни, уж никто не кричал в Отечественную войну про мировую революцию, про интернационал, даже про коммунизм не кричали. А что кричали? За Родину, за Россию, за Отечество. Вспомнили слова, которые перед этим и употреблять было нельзя, за которые едва ли не в тюрьму сажали, да и сажали.
Ну, правда, кричали еще за Сталина. Ну, разве не дураки при всем героизме — миллионами гибнуть за одного человека. Да ладно бы за светоч какой-нибудь, за праведника, за благодетеля, а то ведь сами знаете, Владимир Алексеевич: он же убил миллионы крестьян в коллективизацию, он же уморил миллионы людей в Поволжье и на Украине, он же убил миллионы людей в лагерях, он же всячески притеснял, презирал, и за него же и гибли. А что презирал — это точно. И война была выиграна на презрении к людям, то есть к народу. Что не щадили в войне, так это людей. Он понимал: может не хватить стали, танков, пороха, хлеба, но людей-то в России хватит. И валили, валили под немецкий огонь, мостили трупами, пока в потоках крови не захлебнулись их автоматы и пулеметы. «Малой кровью» — пелось в довоенной песне. Тот же фикционализм. То есть за лозунгом ищи противоположное ему явление. Именно не жалея крови вели эту войну. А сзади заградотряды. Тоже, наверное, из любви к людям. Когда и оглянуться нельзя — свои же пулеметы и покосят. А всех пленных считать предателями, изменниками, врагами, и ежели попадут опять в руки — в сибирские лагеря. Тоже любовь к народу? И скажи, пожалуйста, почему это так получилось — сколько войн вела Россия, и с турками, и с теми же немцами, и с французами, и с японцами, и никогда за все века не было ни одного изменника? А тут вдруг эшелонами повезли изменников на Колыму, в Воркуту, в Казахстан? Это что же, от любви к людям, от доверия к ним? Нет, люди для него были только материалом. Миллионом больше, миллионом меньше, для него не имело никакого значения. И вот миллионы бегут на пулеметы с именем этого человека на устах. Разве не дураки? Разве, если он был умным человеком (а он им был), разве мог он не презирать этих людей? Он их и презирал. То есть не то, чтобы презирал, а просто не относился к ним как к живым людям, а вот именно как к историческому материалу.
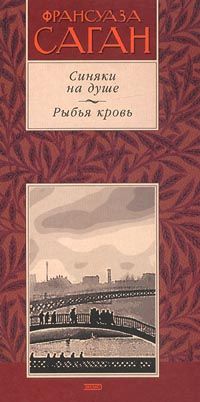


![И Печальный - Геймер[СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
