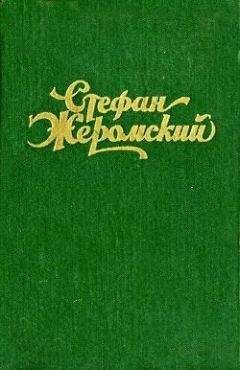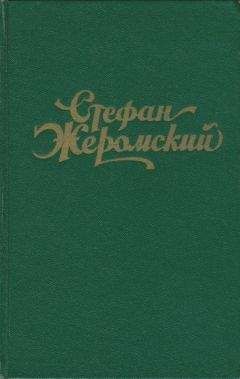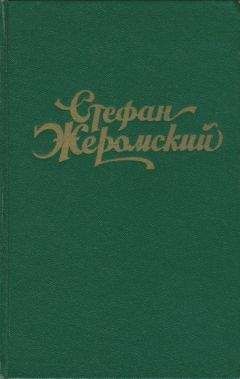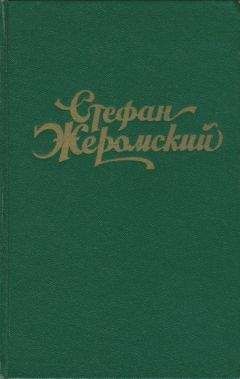Стефан Жеромский - Бездомные
– Покорнейше прошу!.. – воскликнул молодой бурш, раздвигая стулья на пути.
Они очутились в пустом коридоре, выходящем на лестницу. Лестница была прямая и спускалась круто со второго этажа вниз прямо на землю, как стремянка, приставленная к стене.
Юдым, стоя в дверях, увидел внизу свет. Кожецкий держал в руке свечу, пламя ее колыхалось от ветра, врывавшегося в щели между досками. Двери внизу были закрыты, но брызги дождя просачивались сквозь все отверстия. Ливень стучал по крыше крыльца.
В сенях у самых дверей, прислонившись к стене, стоял посыльный.
На нем была фуражка с козырьком, просторное летнее пальто, грубые сапоги. Промок он до нитки. Струи воды лились с него и образовали лужу возле его ног.
Пристально всмотревшись в этого человека, Юдым заметил, что он дрожит всем телом. Голова его свесилась на грудь с той характерной беспомощностью, которая бывает у людей, промокших насквозь.
Инженер разговаривал с ним вполголоса, слова заглушал шум вихря.
«Это не ко мне…» – подумал Юдым, и сердце его сжалось от беспредельной скорби.
Кожецкий взял в руки пакет, принесенный мокрым бродягой, и стал подниматься вверх по лестнице. Увидев Юдыма, он вздрогнул и резким голосом крикнул:
– Что вы тут делаете?
– Я думал, что это, может быть, ко мне, с почты…
– Нет, нет… Какое там! Это тот болван контрабандист.
– Контрабандист?
– Да. Он узнал от кого-то, что я здесь… Видите, какие у меня нервы! Я не ожидал вас здесь увидеть, и сразу… Приятный звук издал, нечего сказать… Самому неловко было услышать свой голос, не говоря о ближних…
– Извините меня, это я…
– Да что вы! Контрабандист… – говорил он шепотом. – Две недели назад я оставил в Катовицах штуку материала на костюм. Я купил его в Кракове, потому что очень люблю этот сорт. Может быть, вы и для себя возьмете. Не хотелось платить пошлину, вот я и шепнул этому плуту, чтобы он принес его как-нибудь. Сегодня подвернулся удачный случай, вот он и откопал меня даже здесь.
– Этот человек расхворается. Я видел, как он дрожит.
– Думаете?
– Да чего ж тут думать?
– Надо ему дать рюмку водки. Как можно скорей… Человек заболеет!
Он быстро направился в столовую и, встретив в дверях лакея, сказал:
– Будь любезен, братец, вынеси человеку, что там стоит, рюмку водки. Впрочем, дай ему, знаешь, две рюмки. Или даже три.
– Пусть выпьет три рюмки… – прибавил Юдым.
– Знаете что, доктор, будьте так добры, отнесите ему сами. Кстати, посмотрели бы, вправду ли он так продрог.
– Охотно.
Юдым взял из рук лакея фигурную бутылку с водкой, рюмку, свечу и спустился по лестнице.
Контрабандист стоял во мраке.
Казалось, он дремал…
Юдым поставил свечу на землю и налил водку в хрустальную чарку.
Бродяга поднял голову и открыл глаза.
Глаза у него были большие, светло-голубые…
Контрабандист жадно выпил одну рюмку, другую, третью. Потом, не кивнув даже головой, открыл дверь и исчез в черной бездне ночи, в неистовой буре.
Два часа спустя Юдым с Кожецким возвращались в коляске домой. Дождь перестал. Была темная ночь, сырая и холодная. В непроницаемом мраке, казалось, витали туманные, белесые тела гнилостных миазмов. Дороги были залиты водой, которая с шипеньем разбрызгивалась во все стороны из-под колес. Когда они выехали из переулков, Кожецкий приподнялся с места и, держась руками за поручни переднего сиденья, стал что-то объяснять кучеру. Садясь, он сказал Юдыму:
– Может, хотите проехаться? Погода прекрасная! Сырость…
И мгновение спустя добавил:
– Можем съездить к портному, которому я сейчас же отдам этот материал на костюм. Зачем мне держать его дома? Не правда ли? Только место занимает…
– Как хотите. Что до меня, охотно прокачусь.
– Ну, значит, гони, брат, да поживей! Вот этакий рублевик, с переднее колесо, на водку получишь!
Лошади, подхлестнутые кнутом, рванулись с места и понеслись. Юдым и Кожецкий довольно долго ехали молча.
Показались электрические фонари, окруженные густым туманом. Пробивая его, свет образовывал круги, печальные, как тени под глазами больных людей. Между дорогой и этим светом простирались какие-то мертвые воды. Синеватый отблеск скользил по темным волнам вдоль ровного откоса, струился рядом с коляской, не отставал от нее, словно стрелка указателя, выступающая из ночной тьмы.
– Где мы находимся?
– Над шахтой.
– А откуда здесь вода?
– Угольный пласт здесь очень толст, но залегает он на глубине нескольких сот метров. Теперь, когда уголь выбран, земля осела и образовалась воронка. И в ней скопляется вода.
Он умолк, и они снова долго ехали по каким-то полям, ни слова не говоря друг другу. Кожецкий сидел, забившись в угол, держа на коленях сверток. Потом он стал что-то нашептывать.
– Что вы говорите? – спросил доктор.
– Ничего, я часто так бормочу про себя. Помните вы такие стихи:
За то, что почти не знал родного дома.
Что был я, как паломник, на трудном пути,
В сверканьях грома…
Юдым ничего не ответил.
– «Что был я…» Какое страшное слово!..
Настала минута безмолвного единения этих двух людей…
Кожецкий заговорил первый:
– Вам, должно быть, показалось глупым, как я нынче старался отличиться. Болтал как институтка.
– Говоря откровенно…
– Вот именно. Но это было необходимо. У меня тут был свой расчет. Неужели вы не поняли, чего я добиваюсь?
– Были моменты, когда у меня было такое впечатление, будто вы говорите наперекор себе.
– Куда там! Это-то нет.
– Значит, вы думаете, что преступление – это то же самое, что и добродетельный поступок?
– Нет. Я думаю, что «преступление» должно быть так же высвобождено, как добродетель.
– Ах!
– Душа человеческая не исследована, как океан. Вглядитесь в себя… И вы узрите там темную бездну, в которую никто не заглядывал. О которой никто ничего не знает. Ни принуждение, ни какая-либо иная сила не может уничтожить то, что мы называем преступлением. Я твердо верю, что в необъятном духе в сто тысяч раз больше добра – да что я говорю! – в нем почти сплошь все добро. Пусть его высвободят! Тогда зло погибнет…
– Можно ли в это поверить?
– Я видел где-то иллюстрацию… На столбе висит преступник. Толпа судей спускается с холма. На их лицах радость, торжество… Хотят, чтобы я поверил, будто этот человек виновен.
– А почему вы сомневаетесь в этом? Быть может, это был отцеубийца? Что позволяет вам предполагать, что это не так?
– Об этом мне говорит Даймонион.[110]
– Кто?
– Об этом говорит нечто божественное, что живет внутри нас.
– Что же это такое?
– Мне подсказывает сердце. Какой-то внутренний голос из подземелья души… Я пошел бы и припал к стопам того, распятого. И пусть бы тысячи свидетелей присягнули, что он отцеубийца, матереубийца, я все равно снял бы его с креста. Повинуясь этому шепоту. Пусть идет с миром…
Кучер остановил лошадей перед каким-то домом.
Было так темно, что Юдым едва различал темную груду строений. Кожецкий вылез и исчез. С минуту слышно было, как он шлепал по лужам. Затем открылась какая-то дверь, залаяла собака…
Asperges me…
Неподалеку от поселка жили знакомые Кожецкого, у которых он изредка, обычно на пасху, бывал с визитом. Это была незажиточная, обедневшая шляхетская семья, владевшая фольварком в несколько сот моргов дрянной, каменистой земли. Ехать в эту деревушку нужно было лесами, такими дебрями, каких свет не видывал.
Однажды, вернувшись с прогулки к обеду, Юдым застал дома гимназиста, который, краснея и бледнея, разговаривал с Кожецким, тщетно старавшимся его ободрить. При входе Юдыма гимназист несколько раз подряд поклонился ему и еще более потупился.
– Господин Дашковский… – отрекомендовал его инженер, – приехал просить, не согласились бы вы, доктор, навестить его больную мать. Не так ли, Олесь?
– Да, но дорога… очень плохая…
– Э, вы плохо уговариваете доктора! Надо было его уверять, что дорога ровная, как стол…
– Да, это верно… но я…
– Пусть бы помучился.
Гимназист не зная что сказать, только мял в руках фуражку и переминался с ноги на ногу.
– А чем больна ваша мама? – спросил Юдым тем нежным голосом, который можно сравнить с заботливой рукой, изо всех сил помогающей подняться.
– Легкими.
– Кашляет?
– Да, господин доктор.
– И давно уже?
– Да, уже давно.
– То есть… года два, три?
– Еще больше… Сколько я себя помню.
– Сколько вы себя помните, ваша мама всегда была больна?
– Кашляла, но в постель не ложилась.
– А теперь лежит?
– Да, теперь все время в постели. Уже не может ходить.
– Ну, хорошо, поедемте. Можно сейчас же.
– Если вы…
– О нет, сперва мы должны пообедать, это уж как хотите!.. – вмешался Кожецкий.
– Но если доктор согласен… – торопливо говорил гимназист.
И в тот же миг, заметив, что сглупил, окончательно смутился.