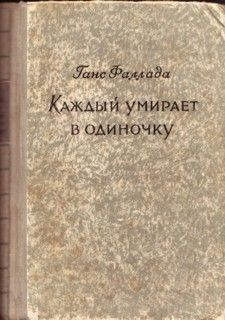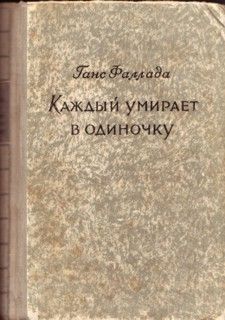Ганс Фаллада - У нас дома в далекие времена
В результате в моей жизни все переменилось. Появились другие школьные товарищи, другие учителя. Из-за того, что я долгое время хромал, мне пришлось отказаться не только от уроков физкультуры, но и от танцев. Мне думается порой, умей я танцевать, моя жизнь могла бы сложиться совсем иначе. Постепенно я все больше и больше оказывался в изоляции, ведь у меня было так мало общего с другими.
Но когда на меня находило уныние, я часто говорил себе: а ведь тебе еще повезло! Если бы ты в то утро позавтракал у дяди Ахима, если бы не выкурил сигарету, ты, пожалуй, не воскрес бы…
Да, я был горемыкой, но в несчастье мне улыбалось счастье, много счастья. И теперь, собственно, можно подытожить: в общем и целом у меня, как у большинства людей, и худа и добра было поровну, да и сейчас чаши их уравновешены. Нет, тут я несправедлив: чаша счастья наполнена сегодня гораздо больше, она заметно перевешивает. А горе — оно лишь приправа к радости!
БРОЖЕНИЕ
Прежде чем расстаться с этими записками, мне хочется еще вспомнить о той переходной поре, когда детство прощалось со мной. Подобно капризной погоде, пора эта отличалась переменчивостью, нередко — без заметных переходов. То ненастье и сразу похолодает, выпадет снег. Потом сквозь облака проглянет солнце, снег стает, и вот уже снова наплывают тучи. Поднимается ледяной ветер и хлещет дождем в окна…
Так бывало и со мной. Я мог быть грустным, угрюмым, неразговорчивым, потом вдруг вскакивал и начинал дурачиться, а пуще того — дразниться. Терпение Эди я подвергал жестокому испытанию, а с сестрами вел себя так, что отец срочно прописал мне «Озорные годы» Жан-Поля. Я надулся. Книгу эту я обнаружил еще давно, когда рылся в отцовской библиотеке, и отбросил как «заумную чушь». (Многие воззрения, казавшиеся мне в юности незыблемыми, были мною вскоре так же отброшены!)
Доставляя много хлопот близким, я и самому себе был в тягость. Так же, как я не знал, куда девать свои руки и ноги, которые росли непомерно быстро и все время мешали мне, я не знал, куда девать самого себя. Иногда я подолгу смотрелся в зеркало. Мне казалось, будто у меня не то лицо, какое должно быть в действительности, и я должен выглядеть совсем-совсем иначе! И вот из давних, как будто бы уже забытых времен всплывали полугрезы-полувоспоминания о каком-то другом я, которым я был в прошлом, всплывали и исчезали, оставляя всякий раз горький привкус грусти.
Но стоило мне, освеженному ванной, поглядеться в зеркало, как меня охватывало своего рода упоение тождеством. Сто раз я повторял своему отражению: «Это я! Я! Ганс Фаллада! Это я!..» Потом бросался на кровать и плакал, вне себя от счастья, что я — это я, и все же не мог понять, почему так нестерпимо тяжко переносить счастье…
От отца я унаследовал шесть холщовых папок с комплектами мюнхенского журнала «Югенд»[72] первых лет издания. С тысяча восемьсот девяносто шестого года по девяносто девятый — времен невообразимо давних. Помню, что журнал этот обратился тогда с призывом собрать средства для какого-то молодого писателя, оказавшегося в нищете. Помнится также, что поступившие суммы были смехотворно малыми: один раз двенадцать марок, другой раз — двадцать. Писателя того звали и зовут Кнут Гамсун. За сорок пять лет, прошедших с тех пор, он стал большим писателем и намного перерос всех ныне живущих. Но уже тогда он написал «Голод» и «Мистерии»…
Все это я помню, как помню и многое другое, но журнальные комплекты больше не перелистываю. Я храню их уже немало лет, однако с той мальчишеской поры ни разу в них не заглянул. Не хочется. Да и листов тех, которые живее всего сохранились в моей памяти, я там не найду. Их нет. Я знаю, их нет — ни одного.
На листах были черно-белые, чаще всего контурные рисунки нагого тела. И вот в ту пору меня увлекла новая идея: по утрам, прокравшись в отцовский кабинет, я выдирал из журналов эти рисунки, а затем тайком с величайшим усердием раскрашивал в розовый цвет. Я уже не помню, что я при этом чувствовал. Наверное, то были какие-то неясные ощущения, которые вряд ли можно было выразить словами. То был лишь дым, огонь еще был глубоко запрятан.
Да, в мою жизнь вошло нечто новое, но оно не доставляло мне удовольствия, в нем было скорее что-то томительное. Я стал чутко прислушиваться к тому, о чем шептались некоторые мои школьные товарищи. При этом я нисколько не менялся в лице, делая вид, что меня это ничуть не интересует, что все мне давным-давно известно и вопрос ясен. А дома я раскрывал энциклопедический словарь и пытался разобраться, но тут же поспешно захлопывал книгу.
Меня пугало то, что я читал. Значит, все совсем не так, как мне рассказывали, значит, и учителя, и родители, и пасторы врали?.. Бессовестно врали! И уже с каких пор! Всегда! Мир зашатался. Я больше ничего не хотел знать, мне было противно то, что я узнал, и все-таки я опять тянулся к книгам. Почему родители ни разу не говорили со мной об этом? Ведь они-то должны знать! А может, вдруг не знают?
Помню, как однажды утром я обнаружил позади шеренги отцовских «Решений рейхсгерихта» красную брошюру, которая, кажется, называлась «Как мы воспитываем нашего сына Вениамина?». В брошюре торчала закладка, я раскрыл на заложенной странице и начал читать. Читал не отрываясь. Потом дрожащими руками спрятал брошюру на прежнее место. Мне было стыдно, что отец это читал, но еще больше меня смущало то, что я знаю, что он читал…
Нагих теть, которых я немилосердно размалевывал розозой краской, — они были похожи на марципановых свинок, — я складывал в синюю папку и запирал в своем письменном столе. Но вот как-то поздно вечером — я уже лежал в постели — ко мне в комнату вошла мама. Она была очень взволнована, чуть ли не плакала, то и дело сжимала мне руки и тревожно поглядывала на меня. Неожиданно она положила эту синюю папку на кровать и с отчаянием воскликнула:
— А я-то думала, что мой мальчик еще невинный!
И плача выбежала из комнаты.
Знаю, то было проклятое время. Выросшие в атмосфере ханжества и преувеличенной чопорности, родители были столь же беспомощны, как и дети. Из ложного стыда и те и другие боялись вымолвить хоть слово о запретном. Родители, несомненно, чувствовали, что это неправильно, что дети ждут от них помощи, что без их помощи испорченные товарищи или дурные женщины сообщат детям в безобразной форме то, что родители сами должны были объяснить достойно, однако не умели. Они только почитывали брошюры «Как мы воспитываем нашего сына Вениамина?» да еще были способны, швырнув синюю папку, намекнуть, что, мол, знают о тебе все, а потом в слезах выбегали из комнаты, крича о потерянной невинности!
Слово «невинность» поразило меня как удар. Я и прежде совершал глупости и бывал наказан за них, но тут я сразу понял: это нечто иное. Раньше я был «непослушным», теперь — «виноватым»! Раз я больше не был невинным, значит, стал виновным, — это же ясно. И я понял, что вина моя не в том, что я выдрал страницы из отцовских журналов, и даже не в том, что размалевал их. Она была гораздо глубже…
Я стал ломать голову над проблемой. С юридической точки зрения я уже понимал благодаря отцу, что всякая вина предполагает умысел. Нельзя стать виновным без умысла, без желания. Но разве у меня был определенный умысел? Ведь не раскрашивание рисунков и не копание в книгах в поисках ответа тяготило меня, а состояние моего духа, мучительная встревоженность, предчувствующее Неведение, от которых мне так хотелось избавиться!
Виноватым я себя не считал. Я ведь не хотел всего этого. Раньше мне было гораздо лучше. Я бы с удовольствием поменял настоящее на прошлое! Нет, я не признавал за собой умышленной вины.
Но, что самое странное, в глубине души я все же чувствовал, что виноват. Зачем я тайком прислушивался к разговорам школьных товарищей? Почему, когда мне захотелось прочитать в энциклопедии о «зачатии», я взял с полки соответствующий том не с той же естественностью, как сделал бы, если бы меня заинтересовал «Занзибар»? Я совершенно инстинктивно стал делать все тайком, а ведь я усвоил поговорку — все, что прячется от дневного света, что делается тайком, то дурно. Почему я не мог спросить отца? Я же обычно спрашивал его обо всем! Почему я был уверен, что мама ни завтра, ни когда-либо еще не вернется больше к этой теме? Тема была тайной, тайной и для взрослых…
И, подумав об этом, я вдруг понял, в чем заключается разница между большими и маленькими, между взрослыми и детьми: одни знают об этой тайне, другие нет. Я понял также, что теперь принадлежу к взрослым, что мне больше никогда не быть ребенком.
Меня охватил страх. Я не хотел быть взрослым. Моя детская жизнь постепенно упрочилась, я знал ее границы, обязанности и радости. Я научился в ней существовать, избегая слишком чувствительных столкновений. И вот все опять становится неопределенным! Стоит лишь подумать об этом тайном, как пропадает всякая уверенность. Родители и все авторитеты рухнули с пьедесталов, ибо оказались лжецами. Мир в смятении раскололся на две половины, и опять же было неизвестно — хорошо или плохо относятся эти половины друг к другу! Нет, я не хотел этого! Никогда не хотел! Я оказался без вины виноватым, мне захотелось вернуть былую уверенность, снова стать невинным. И я решил, что больше не буду ни копаться в книгах, ни подслушивать, ни малевать — даже думать об этом перестану! Я хотел обратно в сад детства!