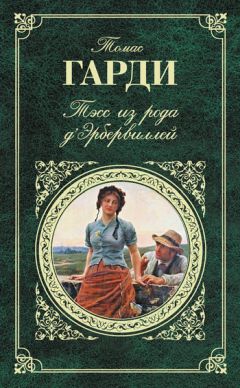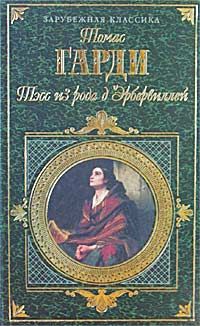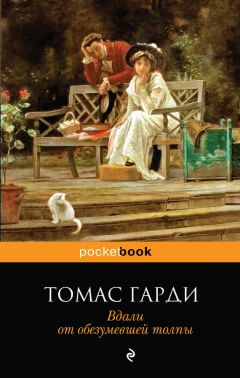Маргарет Рэдклифф-Холл - Колодец одиночества
Стивен старалась говорить непринужденно:
— Иди, сядь у огня, — сказала она с улыбкой.
И Мэри послушалась, села рядом с ней и положила руку на колено Стивен; но Стивен, казалось, не заметила этой руки и не убрала ее, а продолжала говорить:
— Я думала, Мэри, и перебирала все возможные планы. Мне хотелось бы увезти тебя немедленно, погода в Париже кажется совершенно ужасной. Паддл как-то рассказывала мне о Тенерифе, она много лет назад ездила туда с ученицей. Они останавливались в месте под названием Оротава; по-моему, там хорошо — как ты думаешь, тебе понравится? Я могу нанять виллу с садом, и ты сможешь там нежиться на солнышке.
Мэри сказала, слишком хорошо сознавая, что ее рука не была замечена:
— Ты правда хочешь уехать, Стивен? Это не помешает твоей работе? — ее голос показался Стивен напряженным и несчастным.
— Конечно же, хочу, — заверила ее Стивен, — я еще лучше буду работать, если отдохну. В любом случае, я должна присмотреть, чтобы ты как следует поправилась, — и внезапно она положила свою руку поверх руки Мэри.
Странное притяжение, которое иногда существует между двумя человеческими телами, так, что простое прикосновение может расшевелить много тайных и опасных чувств, близилось к ним в это мгновение, и они сидели, неестественно застыв у огня, чувствуя, что в этой неподвижности их безопасность. Но вот Стивен заговорила снова, и теперь она говорила о чисто практических вещах. Мэри должна на две недели поехать к своим родственникам, чем раньше, тем лучше, и оставаться там, пока сама Стивен съездит в Мортон. Наконец они встретятся в Лондоне и прямо оттуда поедут в Саутгемптон, ведь Стивен должна взять билеты и, если возможно, найти виллу с мебелью, прежде чем отправится в Мортон. Она все говорила и говорила, и ее пальцы все это время то сжимались, то разжимались, все еще держа руку Мэри, и Мэри заключила эти нервные пальцы в свою ладонь, и Стивен не сопротивлялась.
Тогда Мэри, как многие до нее, стала так же счастлива, как раньше была подавлена; ведь часто достаточно малейших мелочей, чтобы изменить направление подвижных, как ртуть, эмоций, которым подвержено юное сердце; и она посмотрела на Стивен с благодарностью и с чем-то более глубоким, чего сама не сознавала. И она заговорила, в свою очередь. Она умеет неплохо печатать, хорошо владеет правописанием; она может печатать книги Стивен, разбирать ее бумаги, отвечать на письма, смотреть за домом, а на кухне она даже может соперничать с погруженной в печаль Полиной. Следующей осенью она выпишет из Голландии тюльпаны — в их городском саду должно быть множество тюльпанов, а летом надо приобрести розы, ведь Париж не так жесток к цветам, как Лондон. А можно здесь завести голубей с широкими белыми хвостами? Они так подойдут к старинному мраморному фонтану.
Стивен слушала, время от времени кивая. Конечно же, у нее будут белые голуби с хвостами, похожими на веера, и тюльпаны, и розы, все, что ей будет угодно, если только ей будет хорошо, и она будет счастлива.
На что Мэри рассмеялась:
— Ах, Стивен, дорогая моя — разве ты не знаешь, что я и сейчас ужасно счастлива?
Пришел Пьер с вечерней почтой; одно письмо было от Анны, другое от Паддл. Кроме того, пришло пространное послание от Брокетта, который явно уже молился о демобилизации. Как только его отпустят, он на несколько недель поедет в Англию, но после этого отправится в Париж.
Он писал: «Жду не дождусь снова увидеть тебя и Валери Сеймур. Между прочим, как оно там? Валери пишет, что ты ей никогда не звонила. Жаль, что ты такая необщительная, Стивен; по-моему, ничего хорошего нет в том, чтобы запираться в свою раковину, подобно раку-отшельнику — еще отрастишь себе там щетину на подбородке, или бородавку на носу, или, того хуже, какой-нибудь комплекс. Ты можешь даже приобрести скверную привычку к заурядной жизни — почитай Ференци! Почему ты так ведешь себя с Валери, хотелось бы мне знать? Она такая милочка, и ты ей так нравишься, только недавно она написала: «Когда увидишь Стивен Гордон, передай ей от меня привет, и скажи ей, что почти все улицы в Париже рано или поздно ведут к Валери Сеймур». Черкнула бы ты ей пару строк, да и мне тоже — я уже нахожу твое молчание подозрительным. Ты, часом, не влюбилась? Мне до смерти хочется об этом узнать, так что не отказывай мне в этом невинном удовольствии. В конце концов, нам сказано, чтобы мы возрадовались вместе с теми, кто радуется — могу ли я тебя поздравить? Смутные, но волнующие слухи добираются до меня. Между прочим, Валери не злопамятна, поэтому не смущайся тем, что ты ей не звонила. Она — одна из тех высокоразвитых душ, кто спокойно выскакивают снова после того, как их стукнут по носу, как и я, преданный тебе Брокетт».
Стивен взглянула на Мэри, складывая письмо:
— Разве тебе не пора в постель?
— Не прогоняй меня.
— Я должна это сделать, ведь ты такая усталая. Давай, будь хорошей девочкой, ты выглядишь усталой и сонной.
— Вовсе я не сонная!
— Все равно, уже поздно.
— Ты идешь?
— Еще нет, я должна ответить на письма.
Мэри встала, и на мгновение их глаза встретились, тогда Стивен быстро отвела взгляд:
— Доброй ночи, Мэри.
— Стивен… ты не поцелуешь меня на ночь? Это наша первая ночь вместе в твоем доме. Стивен, а ты знаешь, что никогда меня не целовала?
Часы пробили десять, роза заката уже разлеталась на части, ее разметавшиеся лепестки тревожило почти неуловимое дуновение. Сердце Стивен тяжело билось.
— Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала?
— Больше всего на свете, — сказала Мэри.
Тогда Стивен внезапно опомнилась и выдавила из себя улыбку:
— Очень хорошо, дорогая моя, — она спокойно поцеловала девушку в щеку. — А теперь и правда иди в постель, Мэри.
После того, как Мэри ушла, Стивен попыталась написать письма; несколько строчек Анне, предупреждая о своем визите; несколько строчек Паддл и мадемуазель Дюфо — последней, как она чувствовала, она непростительно пренебрегала. Но ни в одном из этих писем она не упоминала Мэри. Излияния Брокетта она оставила без ответа. Потом она вынула неоконченный роман из ящика стола, но он казался ей таким скучным и ничтожным, она снова со вздохом отложила его в сторону и, заперев ящик, положила ключ в карман.
Теперь она больше не могла удерживать в рамках великую радость и великую боль в своем сердце, которую представляла собой Мэри. Ей достаточно было позвать, и Мэри пришла бы, принесла бы ей всю свою доверчивость, всю свою юность и свою пылкость. Да, ей достаточно лишь позвать, и все же… хватит ли у нее жестокости, чтобы позвать? Ее ум отшатнулся от этого слова: почему жестокости? Они с Мэри любили друг друга, они были нужны друг другу. Она могла подарить девушке роскошь, обеспечить ее безопасность, чтобы ей никогда не пришлось бороться за свое существование; у нее было бы все, что можно купить за деньги. Мэри не была достаточно сильной, чтобы бороться за существование. И она, Стивен, уже не была ребенком, чтобы пугаться и робеть в этой ситуации. Было множество других, таких, как она, даже в этом городе, и в любом городе; и не все они жили, как распятые на крестах, отрицая свои тела, притупляя свои умы, становясь жертвами собственной неудовлетворенности. Наоборот, они жили естественной жизнью — той жизнью, что была совершенно естественной для них. У них были свои страсти, как у всех, и почему бы нет? Разве у них не было права на страсти? Они были привлекательными, в этом была вся ирония, она и сама привлекала Мэри Ллевеллин — девушка была откровенно и явно влюблена. «Всю свою жизнь я чего-то ждала…» — Мэри говорила это, она говорила: «Всю свою жизнь я чего-то ждала… Я ждала тебя».
Мужчины… они были эгоистичными, высокомерными, они были собственниками. Что они могли сделать для Мэри Ллевеллин? Что мог бы дать мужчина такого, чего не могла дать она? Ребенка? Но она подарит Мэри такую любовь, что она будет полной сама по себе, без детей. У Мэри не останется места в сердце и в жизни для ребенка, если она придет к Стивен. Всем, чем могут быть друг для друга люди, станет она для нее в этом безграничном родстве — отцом, матерью, другом, любовником, всем — в этом будет удивительная полнота; и Мэри будет ребенком, другом и возлюбленной. Страшными узами своей двойной природы она крепко опутает Мэри, и эта боль будет сладостью, и девушка только еще больше будет просить этой сладости, лишь крепче прижимая к груди свои цепи. Мир обвинит их, но они будут радоваться; достойные, отверженные, неустыженные, торжествующие!
Она начала беспокойно ходить взад-вперед по комнате, как бывало с ней в моменты сильных чувств. Ее лицо стало зловещим, тяжелым и задумчивым; прекрасная линия ее губ стала мрачнее, глаза перестали быть ясными, они были сейчас не служителями ее души, а рабами ее беспокойного, страстного тела; красный шрам на щеке казался открытой раной. Потом вдруг она открыла дверь, глядя на слабо освещенную лестницу. Она шагнула вперед, затем остановилась; в отвращении, изумляясь себе и тому, что она делает. И, стоя там, будто обратившись в камень, она вспомнила другой просторный кабинет, вспомнила долговязую девочку, похожую на жеребенка, рассеянно глядевшую в окно; вспомнила мужчину, протянувшего ей руку: «Стивен, подойди сюда… Ты знаешь, что такое честь, дочь моя?»