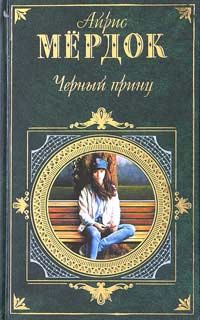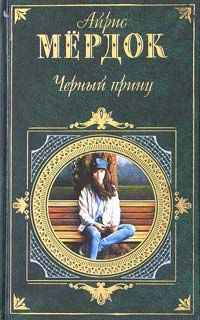Черный принц - Мердок Айрис
Поскольку Рейчел Баффин — одно из главных действующих лиц этой драмы, в каком-то трагическом смысле даже самое главное действующее лицо, я хочу здесь задержаться и коротко описать ее. Я знал ее больше двадцати лет, почти столько же, сколько и Арнольда, и, однако, в то время, о котором идет сейчас речь, я знал ее, как стало очевидно впоследствии, довольно плохо. Что-то в ней было для меня неясное. Некоторые женщины, я бы сказал даже, многие женщины, по моим представлениям, отличаются какой-то зыбкостью. Не здесь ли кроется основная разница между полами? Может быть, это просто отсутствие эгоизма в женщинах? (С мужчинами, по крайней мере, все ясно.) У Рейчел это шло, во всяком случае, не от недостатка ума. Но существовала какая-то неопределенность, и все ее хорошее отношение ко мне, и моя многолетняя, почти родственная связь с Баффинами не могли эту неопределенность рассеять и даже, наоборот, пожалуй, усиливали. Мужчины, несомненно, играют в жизни роли. Но и женщины тоже играют роли, только менее четкие. В театре жизни им достается меньше выигрышных реплик. А может быть, я измышляю загадки там, где все очень просто. Рейчел была умная женщина, жена знаменитого человека, такая женщина инстинктивно держится как простое отражение своего мужа, она как бы направляет на него все лучи. Ее зыбкость не возбуждала и простого любопытства. От такой женщины даже честолюбия не приходится ждать, тогда как нас с Арнольдом, каждого на свой лад, буквально терзало и, пожалуй, направляло в жизни неуемное честолюбие. Рейчел можно было назвать (в том смысле, в каком никогда не скажешь этого о мужчине) «молодчагой» и «славным малым». На нее можно было положиться, это уж бесспорно. С виду это была (тогда) крупная приятная женщина, довольная жизнью, хорошая и умная жена всеми признанного шармера. У нее было широкое, белое, слегка веснушчатое лицо и жестко торчащие рыжие волосы. Ростом, пожалуй, она была немного великовата для женщины и вообще физически как-то превосходила мужа. В последние годы она стала заметно прибавлять в весе, человек посторонний мог бы сказать — разжирела. Она постоянно была занята благотворительностью или политиков слегка левого толка (сам Арнольд политикой не интересовался). Словом, она была превосходной «домашней хозяйкой» часто именно так себя и величала.
— Рейчел, вы не пострадали?
Под левым глазом у нее наливался багровый синяк. И глаз уже начал заплывать, хотя это не сразу было заметно, потому что оба глаза распухли и покраснели от слез. Верхняя губа с одной стороны тоже распухла. На шее и спереди на платье была кровь. Всклокоченные волосы казались темнее обычного, словно мокрые, быть может, они и в самом деле намокли в потоке ее слез. Она тяжело, прерывисто дышала. Ворот ее платья был расстегнут, и в прорези виднелось белое кружево и выпиравшее над ним рыхлое тело. Она так сильно плакала, что лицо ее распухло до неузнаваемости, оно было мокрым, лоснящимся и как бы раскаленным. Теперь она снова расплакалась и, отшатнувшись от моей дружеской руки, стала рассеянно стягивать у горла платье.
— Рейчел, вы ранены? Я привез врача.
Она стала грузно подниматься с пола, опять отстранив мою поддерживающую руку. От ее прерывистого дыхания на меня пахнуло спиртом. Затрещал придавленный коленом подол платья. Она отпрянула и не то бросилась, не то упала на разоренную постель в глубине комнаты. Рухнула на спину, пытаясь прикрыться одеялом — безуспешно, потому что она лежала на нем, — и, только закрыв руками лицо, зарыдала страшно, в голос, в самозабвении горя некрасиво раскинув на постели ноги.
— Рейчел, ну, пожалуйста, возьмите себя в руки. Вот, выпейте воды. — Выносить этот отчаянный плач было выше моих сил, я испытывал чувство, близкое смущению, но только гораздо более сильное, оно и мешало, и заставляло смотреть на нее. Женский плач пугает и мучит нас сознанием вины; а этот женский плач был ужасен.
Арнольд за дверью кричал:
— Впусти меня, Рейчел, пожалуйста, умоляю!..
— Перестаньте, Рейчел, слышите? — сказал я. — Это непереносимо. Перестаньте. Я пойду отопру дверь.
— Нет, нет! — без голоса, как бы шепотом, взвыла она. — Только не Арнольда, только не…
Неужели она все еще его боялась?
— Я впущу врача.
— Нет, нет!
Я открыл дверь и отстранил ладонью Арнольда.
— Войдите и осмотрите ее, — сказал я Фрэнсису. — У нее кровь.
Арнольд в дверях громко и жалобно взывал:
— Дорогая, прошу тебя, позволь мне только на тебя взглянуть, не сердись, ну, пожалуйста…
Я оттолкнул его к лестнице. Фрэнсис вошел в спальню и запер за собою дверь — то ли из деликатности, то ли по правилам своей профессии.
Арнольд сел на верхнюю ступеньку и застонал:
— О господи, господи, господи…
К моему испугу и смущению примешалось теперь какое-то жуткое, манящее любопытство. Арнольд, позабыв о том, что за зрелище он собой являет, сидел, запустив обе руки в волосы, и стонал:
— Господи, ну и кретин, ну и кретин!..
Я сказал:
— Успокойтесь. Что у вас тут произошло?
— Где взять ножницы? — крикнул из-за двери Фрэнсис.
— В верхнем ящике туалетного стола, — отозвался Арнольд. — Господи! Зачем ему ножницы? Неужели он хочет оперировать?..
— Что у вас произошло? Давайте спустимся немного. — Я подтолкнул Арнольда, и он, скрючившись и хватаясь за перила, сполз за поворот лестницы и сел на ступеньку внизу, держась за голову и уставясь в пол. В прихожей у них всегда стоял полумрак, потому что стекло над входной дверью было цветное. Я обошел Арнольда и сел в кресло. На душе у меня было какое-то странное тягостное смятение.
— О господи, господи! Вы думаете, она простит меня?
— Конечно. Но что же…
— Все началось с обыкновенной дурацкой ссоры из-за моей новой книги. Черт! Как можно быть таким кретином! Мы оба твердили свое, не отступались. Обычно мы не спорим о моих книгах, то есть просто Рейчел все нравится и она считает, что спорить не о чем. Иногда только, если ей нездоровится или что-нибудь такое, она прицепится к какому-нибудь месту и начинает говорить, что это про нее или что там описывается какой-то случай, который был с нами, ну, все в таком духе. Но вы ведь знаете, я не пишу так, прямо с натуры, у меня в книгах все вымышленное, а Рейчел иногда ни с того ни с сего взбредет в голову, будто она обнаружила что-то для себя обидное, оскорбительное, унижающее, вдруг какая-то прямо мания преследования, и расстраивается она из-за этого ужасно. Обычно людям, кого ни возьми, до смерти хочется попасть в книгу, угадывают себя где и не придумаешь, а Рейчел прямо взвивается, если я даже вскользь упомяну какое-нибудь место, где, скажем, мы с ней были вдвоем, — для нее тогда все испорчено. Но все равно, о господи, Брэдли, ну что я за идиот!.. Словом, все началось с такой пустяковой ссоры, но потом она сказала одну обидную вещь о моей работе в целом, сказала, что… ну, неважно… мы начали ругаться, ну и я, вероятно, тоже высказался о ней не слишком одобрительно, просто для самозащиты, а тут еще мы пили с ней коньяк с самого обеда… Как правило, мы много не пьем, но мы начали ссориться и все наливали себе и наливали, с ума сойти можно. Кончилось тем, что она страшно распалилась, уже себя не помнила и заорала на меня, как будто ее режут, а я этого не выношу. Я толкнул ее слегка, только чтобы она перестала орать, а она вцепилась мне в щеку ногтями, вон как разодрала, а, черт, больно. Ну, я перепугался и стукнул ее: надо же было, чтобы она замолчала. Совершенно не могу выносить крики, вопли и сцены, я их просто боюсь. Она визжала, как фурия, выкрикивала разные невозможные вещи о моих книгах, и я ударил ее рукой, чтобы прекратить эту истерику, но она все бросалась и бросалась на меня, и я наклонился и поднял у камина кочергу, чтобы не подпускать ее к себе, а она как раз в это время дернула головой — она ведь плясала вокруг меня как бешеная — и как раз дернула головой и прямо наткнулась на кочергу. Звук был такой ужасный — о господи! Я, разумеется, не хотел ее ударить, то есть я ее и не ударил… Она упала на пол и лежала так неподвижно, глаза закрыла, мне даже казалось, что она перестала дышать… Ну и вот. Я страшно перепугался, схватил кувшин с водой и вылил на нее, а она лежит и не двигается. Я был вне себя… А когда я отошел, чтобы принести еще воды, она вскочила и убежала наверх и заперлась в спальне… Я просил, но она не отпирала и не отзывалась. Нельзя было понять, то ли она это назло притворяется, то ли действительно ей худо, ну, вот я и не знал, что мне делать… О господи, ведь я же не хотел ее ударить.