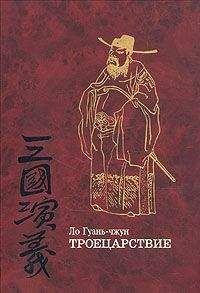Цирил Космач - Дорога в Толмин
— Слушаю, — быстро отозвался сын. — Только не очень хорошо разобрал, потому что думал о Равничарах.
— О Равничарах? — с живостью переспросил отец. Ему явно было по душе, что сын размышляет после его рассказа. Он помолчал, потом убежденно произнес: — Вот видишь, разве не жалко, что в нашей долине нет ни одного писателя! — Провел ладонью по носу и добавил: — Впрочем, как знать, может, еще родится… Или уже родился…
— Кто? — рассеянно спросил мальчик, вновь вернувшийся к своим мыслям.
— Кто?.. Тот, кто напишет о наших людях!.. Как знать?
— Да, как знать, — машинально повторил мальчик.
Отец посмотрел на него и умолк.
Молча дошли они до Бачи и так же молча начали подниматься по тропинке на Стопец, на тот красивый и широкий уступ, где лежали поля и нивы Мостаров и Модреянов. Там человеку дано увидеть и осознать, что мир расстилается на все четыре стороны: по Бачскому ущелью, по Идрийской долине и по Соче к северу и югу. Там утомленный трудом горец невольно затихает, залюбовавшись равниной, Крном и соседними горами; возвышаясь совсем рядом, они потрясают своей могучей красотой, заставляя забывать будничные тяготы и заботы; с глаз слетает пелена недовольства, а из сердца уходит тревога. Человек выпрямляется, набирает полную грудь воздуха и остро чувствует счастье — оттого, что родился в прекрасных местах и что жить, в общем-то, прекрасно.
Отец и сын шли ровной проселочной дорогой у подножья горного склона. Мальчик перестал заниматься изучением собственного сердца Он пришел к печальному заключению, что не знает своего сердца; пожал плечами и стал любоваться окрестностями. Он глядел на вытянутые, вспаханные дугой красноватые нивы, они уже отдали людям урожай и теперь, усталые, спокойно ждали, когда их окутает снежный покров, чтобы погрузиться в заслуженный зимний: отдых. Потом он перевел взгляд на козольцы[1], стоявшие посреди полей, и на горы, поднимавшиеся за ними. Чем ближе подходили к сушилкам, тем выше они становились, казалось, будто по склонам уже усыпанных снегом гор поднимаются не жерди сушилок, а широкие черные ступеньки огромных лестниц. Это сравнение так захватило его воображение, что он выбрал себе лестницу, подводившую к вершине Крна. Она поднималась, доходила до самого верха и вдруг пропала — мальчик подошел вплотную к козольцу и прошел мимо. Крн маячил впереди — голый, высокий, гордый и неприступный. Смотри-ка, вот уже и другая сушилка. Знай растет себе из земли широкая черная лестница, устремляется вверх по убеленным склонам скалистого Крна, все выше и выше, до самой вершины, до самого неба.
Отец остановился возле часовенки, укрытой старыми каштанами, поднял голову. Светать только начинало.
— Слишком рано мы вышли из дому, — сказал он. И добавил, хорошо зная, что они не имеют права истратить ни одной лишней лиры: — Чего нам слоняться по Толмину и ждать, пока откроют школу. Здесь как-никак лучше. Посидим в часовне, подождем утра.
Сын чувствовал, что-то тревожит отца, ему хочется выговориться, да и сидеть в часовне ему явно не по душе. Он нетерпеливо закидывал ногу на ногу, пересаживался и наконец сказал:
— Здесь как-то неуютно и затхлым тянет. Давай лучше посидим под козольцем.
Мальчику тоже было неприятно в часовне, поэтому он с охотой зашагал вслед за отцом по пустому полю. Они остановились перед козольцем, на котором висело несколько снопов гречихи и сена. Сели на землю, опершись спинами на снопы и подтянув колени к груди.
Начиналось утро.
Теперь можно было как следует осмотреться. Природа стремительно менялась. Она по-прежнему казалась фантастической, зато перестала быть страшной. Горы расступились, их высокие белые вершины были могучими, но такими спокойными, что вселяли мир и покой в самого мальчика. Небо уже не было узким и давящим, свинцовым, прижимающим человека к земле. Оно распахнулось, стало легким и голубым… А облака?.. О, облака еще казались сказочными могучими конями, только не были уже хмурыми и серыми; теперь, в первых лучах солнца, они были розовыми, как будто кони вышли окровавленными из благородного ночного сражения. Они победили, еще как победили. Не только сами вышли из-под свинцового покрова, а своими сильными спинами приподняли свинцовое небо и перекинули его за горы. И теперь действительно свободно мчались навстречу своему миражу вселенских, вольных, бескрайних зеленых полян.
Вид этой земли и этих небес пробудил в мальчике ощущение столь сильного и необъяснимого счастья, что он готов был заплакать. Он подумал: до чего это прекрасно — жить… Жить? Жить! Жить!.. Знать, что за твоей спиной течет Бача, что слева по глубокому ущелью бежит Идрийца, а впереди — Соча, прекрасная река, равной которой нет во всем свете… Как страшно должно быть человеку, когда ему приходится умирать!.. Наверное, сама смерть пугает не так, как сознание, что ты закроешь глаза и никогда больше не увидишь ни этих нив и этих сушилок, ни этих сине-зеленых рек и покрытых лесами склонов, ни этих белых вершин и распахнутого неба, ни этих розовых облаков, этих благородных, окровавленных небесных коней, которые среди огромного голубого простора празднуют свое освобождение… Закрыть глаза и не открыть их никогда…
При этой мысли он вспомнил о маме. На всем пути он ни разу не подумал о ней, и теперь ему стало так совестно, что он вздрогнул.
— Тебе холодно? — спросил отец.
— Пробирает, — признался мальчик с тяжелым сердцем.
— Пойдем дальше?
— Как хочешь…
— Тогда пойдем, — вздохнул отец и встал.
Они молча прошли через Модрей и молча дошли до Подключья. Там дорога сужалась, зажатая Сочей и высокой отвесной скалой. Именно там отец повернулся к сыну, как будто чувствуя безвыходность своего положения. Погладил себя по носу, откашлялся и мягко сказал:
— Если все будет в порядке, в июне ты сможешь сдать экзамен за среднюю школу.
Мальчик только пожал плечами и вздохнул.
Отец снова погладил себя по носу, откашлялся и не сразу спросил:
— Скажи, ты уже думал о том, кем станешь?
Сын посмотрел на него и покачал головой.
— Никогда? — продолжал допытываться отец с плохо скрытым разочарованием.
— Никогда.
— Гм… — пробормотал отец, покачав головой, сказал себе под нос — Странный парень… Скоро семнадцать стукнет, а его ничего не интересует… Странный парень…
Мальчик втянул голову в плечи и промолчал. Ему было неприятно, словно отец упрекал его за душевную черствость. С горечью он сознавал, что и в самом деле он странный, неудачник, который не только лишний на этом свете, но и приносит сплошные неприятности матери и отцу.
— А я-то думал!.. — вздохнул отец и посмотрел на небо.
— И что же ты надумал? — быстро спросил мальчик, которому хотелось угодить отцу.
— Я говорю, что думал о том, кем быть, когда был в твоем возрасте, — сказал отец. Вытащил из кармана платок, развернул, взмахнул им, но сморкаться не стал. Убрал платок в карман, взялся за нос и задумался. Помолчав, он заговорил: — Видишь ли, я был единственным ребенком. Отец вполне мог послать меня учиться. Я просил его об этом, и другие тоже, только как об стенку горох. Он был упрямый и очень косный человек. Всегда повторял: «Крестьянин рожден быть крестьянином, а не господином!..» А я был уверен, что не гожусь в крестьяне. Крестьянская работа не приносила мне никакой радости. И, как мог, отбивался от нее. Ходил в пастухах почти до двадцати лет. Тогда в наших краях еще держали овец. Я пас своих и чужих; иногда стадо доходило до ста голов… Это позволяло мне оставаться под Вранеком от зари до зари, а иногда и на ночь. Я полеживал и читал, читал и рассматривал долину, размышляя о том, сколько рассказов можно написать о наших краях и о наших людях. И сколько я их написал!.. Я хотел сказать, сколько я их написал в мыслях, в голове! — поспешно добавил он. Помолчал и продолжал — Я не говорю, что мне не хотелось написать их на самом деле… Чего скрывать! Да только как я мог писать? К этому у человека, как говорится, должно быть призвание… Он должен быть для этого рожден… Ты слушаешь?
— Слушаю, — кивнул мальчик.
Какое-то время отец прошел молча. Поглаживая себя по носу, о чем-то раздумывал, однако не решался заговорить. В конце концов откашлялся и начал:
— Видишь ли, я потому и говорю… человек размышляет о том о сем… иногда по-глупому… а что поделаешь… от мечты и от желаний не избавишься, если ты человек. Вот такие дела!..
Сын чувствовал — отец не сказал того, что намеревался сказать. И отец понял, что сын это почувствовал, потому поспешил продолжить:
— Так что я хотел сказать?.. Да. Я хотел сказать, что не просто читал. И учился тоже. Учитель дал мне словенскую грамматику Антона Янежича[2]. Я прочел ее от корки до корки, сделал кучу выписок. Я, так сказать, выучил ее наизусть… Да что там говорить, я только о том и мечтал, чтобы дать тягу из дома. Мечтал, но и трезво рассуждал. Грамматика — это, конечно, хорошо, да куда с ней денешься, с одной грамматикой… Вот я и решил выучиться играть на органе и устроиться куда-нибудь органистом и регентом церковного хора. И выучился. Самоучкой. Отец, понятно, не дал денег на покупку пианино, старого, разумеется. И я нанялся на работу. Как раз начали прокладывать дорогу через Доминов обрыв. Думал, отца удар хватит от стыда, что его сын работает на дороге. Надо сказать, тогда труд рабочего еще ценился меньше, чем сейчас; на Доминовом обрыве работали почти одни итальянцы да фриулийцы[3]… Ну, заработал я шестьдесят гульденов и купил старое пианино. Сам настроил, начал бренчать. Но это ему не нравилось. В один прекрасный день пришел я домой и увидел пианино под грушей. Отец выкинул его из дому, хорошо еще, что не порубил топором. Я не сказал ему ни слова. Затащил пианино в сарай, досками отгородил себе угол и продолжал бренчать. Вот такие дела!.. Бренчал и ждал, когда заберут в солдаты. Надеялся увидеть мир и чему-нибудь выучиться. Если кто из наших и радовался солдатчине, так это я. Да только меня не взяли, из-за расширения вен… Словом, с армией не вышло. А годы шли. Что поделаешь! Примирился с судьбой, стал крестьянствовать. Однако не долго. Стал письмоносцем, потом арендовал маленький трактир, открыл лавочку… да что там говорить, все перепробовал… Конечно, знаю, ничего я не достиг, но по крайней мере пытался достичь… пытался кем-то стать… Видишь ли, мне кажется, человек в молодости должен мечтать, даже если мечтает о невозможном, недостижимом… Ха, если я порой вспоминаю все свои мечты, мне становится стыдно… И все-таки это не плохо! — заключил он и махнул рукой.