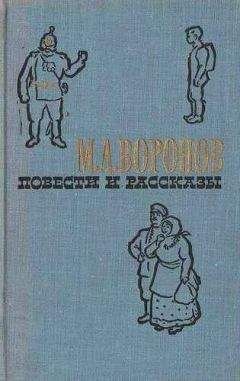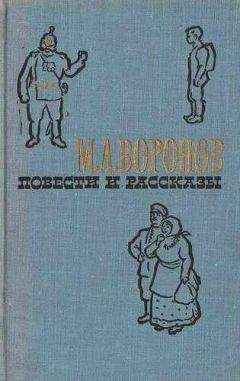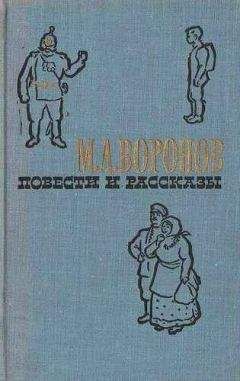Михаил Воронов - Братья-разбойники
— Гляди, гляди! клюет!
— Что же ты орешь-то?
— П-п-одсекай! — раздается нетерпеливое шипенье.
— Вот как я тебя удилищем вытяну, так ты будешь меня учить, дурацкая твоя морда!
— Сам дурацкая морда: у него клюет, а он ворон ловит.
— Не у тебя клюет, так и молчи, осел! — вытаскивая из воды удочку с объеденной наживою, щетинится прозевавший рыбу.
— Нет, шалишь! Не сигай, не сигай, не сорвешься! — с непритворным восторгом кричит наконец счастливец, вытащивший первую рыбу.
— М-миленький, покажи! — разом бросаются к нему братья.
— Ершонок! — причмокнув, показывает рыбку счастливец.
— Голубчик, какой крохотный!
— Да-ай, подержать! Да-ай, Христа ради! Ну, хоть один разочек.
— Как же, так и дам мучить…
— Ну, поднеси хоть поближе посмотреть.
— Вот, смотрите. Да нечего руку-то протягивать — смотри глазами.
И долго-долго идет рассматривание злополучного ершонка, точно какого-нибудь невиданного дива. С подобным восторгом разве только одни чиновники встречают первый чин, несмотря на то что он не больше, как коллежский регистратор.
Если нам удастся на первый раз изловить нескольких таких рыбешек, мы являемся домой исполненные необычайной гордости и сознания собственного достоинства. Улов несется прямо в кухню и выкладывается на стол.
— Ну-ка, смотри, Домна! — важно командуем мы кухарке.
Но тут нам сейчас же готовится удар.
— Матушки! Иде вы таких горьких понабрали? — простодушно удивляется кухарка. — Мотри, снулых иде-нибудь нашли. Ды, право!
— Молчи, дура, когда ничего не понимаешь!
— Да как же, господчики, молчать, когда вы у меня стол ими теперь опоганили?
Обиднее таких глупых слов, разумеется, и быть ничего не может. Мы уже сучим кулаки и готовимся вступить с дерзкой бабой в рукопашный, как вдруг в кухню является матушка, а за ней тянется целая вереница сестер. Восторг счастливого улова снова наполняет наши сердца, и мы бросаемся навстречу к матушке.
— Мамочка! миленькая!..
— Постойте, постойте! — отстраняет нас рукой матушка.
— Вы посмотрите…
— Да я и то смотрю, — перебивает нас матушка, и действительно, смотрит, только не на рыбу, а на нас.
Мы смущены.
— Вы где были?
— Мы рыбу ловили.
— Да разве так рыбу-то ловят?
— Батюшки вы мои! — хором восклицают сестры.
— Вы посмотрите на себя, — советует нам матушка.
Мы смотрим и тут только замечаем, что мы по пояс выпачкались в грязи; в смущении бросаем мы взгляд на свои руки и тотчас же прячем их куда-нибудь подальше, потому что руки эти чернее, кажется, голенища.
— Да где вы были, вы мне скажите? — допытывается матушка.
— Мы рыбу ловили.
— Так разве я не знаю, как рыбу-то ловят?
— Мы на самом хорошем месте были… на рыбном.
— Какое же это такое рыбное место? Вы просто где-нибудь в болоте валялись.
— Нет, вы, мамочка, на Мишу-то, на Мишу посмотрите! — указывают сестры. — А Ваня-то, Ваня-то! А ежонка, того так даже и не видно совсем: весь в тине вымазался, и с ушами.
Тут наш счастливый улов, видим мы, так прахом и пошел…
— Что это, дети? Вы совсем страх забыли, — увещевает нас матушка. — Отец вот-вот приедет, а вы, как чушки какие-нибудь, все в грязи вывалялись.
О, человеческое жестокосердие! Стоит ли дальше рассказывать? Стоит ли рассказывать, что чудесную ловитву нашу без дальних рассуждений выбрасывают в помои. (Это еще счастье, если мы успеем утянуть из нее хотя по рыбине и запрятать в наши карманы.) Что с искусных рыбаков снимают все, белье и платье, и заменяют свежим. Что мучительная тоска наполняет наши гонимые и страждущие души и что Домна ножом отскабливает слоем насевшую грязь с наших сапог. Что, наконец, мы сидим босые в кухне и, в ожидании вычищенных сапог, волей-неволей должны выслушивать брюзжанье глупой кухарки, пользующейся нашим незавидным положением.
— Я бы этих рыбаков да хворостиной хорошей.
— А тебя… дура!
— Ну, меня-то еще было бы за что? — возражает Домна. — Нет, мать у вас баловница… Ох, если бы да на мой карахтер! Так бы, кажется, зажала голову между ног, да и добре бы насыпала! Помни!
Однако спешу заметить, что не всегда наши рыбные ловли кончались столь печально (иногда, впрочем, они оканчивались и печальнее, именно, когда с уловленной рыбой мы попадали на отца), но случалось и так, что добытых нами из воды рыбенок Домна, хотя нехотя, скоблила ножом, делая вид, что чистит, потом чуточку потрошила и затем тыкала на противень, под бок к какому-нибудь гусю или к куску мяса, и сажала в печь, где наша «охота» гнулась в какие-то крючки от жара и высыхала что твой добрый солдатский сухарь. Создатель мой! что это за вкусное было жаркое! Нет, нынче уж не умеют приготовлять таких гастрономических блюд!
IV
Купанье было одним из лучших удовольствий летнего периода и начиналось скорехонько же после схода льда, почти тотчас же за первой ловитвой рыбы. Первые ванны, как очень ранние, были немножко холодноваты, и мы выскакивали из воды синие, словно утопленники, и долго после не могли свести зубов и тряслись, как в злейшей лихорадке; но зато впоследствии купанье делалось, особенно жарким летом, чуть ли не главнейшим времяпрепровождением. Так, например, на практике было доказано, что в хороший летний день, то есть когда воздух раскален приблизительно градусов до тридцати пяти и солнце, словно подернутое какой-то дымкой, тусклое такое стоит в вышине, — в подобный удачный день можно было выкупаться так разиков двадцать — двадцать пять, а то так и все тридцать. Купанье частию зависело от хорошего места, — а если таких мест набиралось десяток, то от всех десяти хороших мест, — частию от товарищества, — а если таких товариществ попадалось пятнадцать, то от всех пятнадцати товариществ, — частию от времени, — а иногда такого времени было, с небольшими, впрочем, перерывами, ровно полсутки; и вот, совокупность-то всех этих разнообразных условий и приводила к указанному выше счастливому результату, выражавшемуся числом 30. Бывало, например, так, что, спустившись на хорошее купальное место как раз против нашего дома, купальщики, выкупавшись здесь, не одеваясь, перебегали на другое место, отсюда, также для большей быстроты неся одежду под мышкой, перекочевывали на третье, с третьего тем же порядком на четвертое, с четвертого на пятое и т. д. и т. д. Так что когда наступала пора бросить купаться, то есть когда при тридцатиградусном жаре начинали коченеть члены от холода, купальщики озирали местность, в которой они находились, и к удивлению и восторгу своему видели, что они прошли нагие так версты две-три.
— Вот так махнули! — восклицает, дрожа, кто-нибудь.
— Что же за «махнули»? Я намедни так еще дальше, вон туда к заводу, этак же ушел, — и счастливец тычет пальцем по направлению к заводу, отстоящему так версты на две еще.
— А ведь это мы все нагишом.
— Так нешто из-за таких-то пустяков одеваться? Что мы за дураки.
— Эх, братцы, сколько хороших-то местов развелось!
— Местов — страсть: закупаться можно!
— А вам дома-то ничего за это не бывает? — спрашивают нас товарищи.
— Нет, если папенька, так высечет, а маменька, так ничего, — равнодушно отвечаем мы.
— Ну, господа, как хотите, а без отца лучше жить, — сообщает товариществу Паша Трубкин, бойкий, черноглазый карапуз, певец и первый по околотку буян.
— Еще бы! — прежде всех соглашаемся мы.
— Мать-то когда еще соберется палку взять, а я уж, мах, да и за ворота! — поясняет Паша, почему без отца лучше. — Ну, а от отца так-то не убежишь!
— Ишь ты сравнил: этот прытче…
Раз, я помню, во время купанья со мною случилась презабавная история. Нужно заметить, что нередко мы отправлялись купаться с Максимом или, лучше сказать, не с Максимом, а с лошадьми, потому что кучер ходил на реку не для собственного прохлаждения, а водил туда лошадей купать. Так как я был побольше других братьев, то кучер предложил мне искупать одну из лошадей, для чего посадил меня на нее верхом, дал в руку поводья и затем вогнал лошадь в воду; сам же Максим сел на другую лошадь и тоже направился в воду. Не помню теперь хорошенько, что было причиной, но только лошадь моя вдруг задурила, сделала несколько прыжков, рванулась из воды и, выбравшись на берег, стрелой помчала меня к родительскому крову. Напрасно я натягивал поводья, кричал и молил о помощи, — ничто не помогало: упорный конь фыркал лишь и несся, куда ему хотелось, да еще, как нарочно, не через заднюю калитку, а через главные, передние ворота, показывая меня удивленным гражданам в двенадцать часов дня в костюме праотца Адама. В таком виде конь представил меня прямо на родительский двор и устремился к конюшне, но, к счастью моему, умерил свой бег пред низкими дверями конюшни и тем дал мне возможность одуматься и свалиться через круп этого злодея-коня на навозную кучу, наваленную обок с дверями. Едва я успел опомниться и, гонимый стыдом и страхом, запрятался в ближайший сарай, как вижу, за мной следом, в таком же костюме, влетает на двор кучер Максим, бросившийся догонять и спасать меня; несколько минут спустя, тоже голые, прибегают домой братья и приносят с собою одежду, которую, к счастию, догадались захватить. Все мы сбиваемся в сарай и начинаем одеваться; у ворот же и во дворе уже теснятся целые толпы любопытных. Как кажется, истинная причина этого события для публики так и не разъяснилась, и мы долго были предметом разных кривых толков и рассуждений.