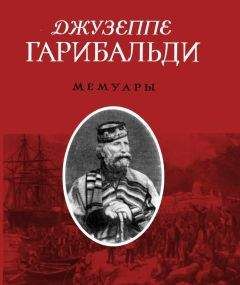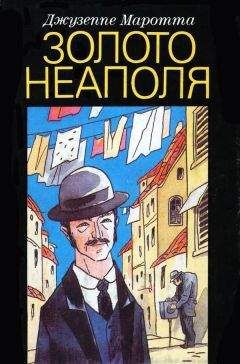Джузеппе Томази ди Лампедуза - Леопард
Эти люди, деревенские либералишки, стремились лишь к легкой наживе. Баста, поставим точку. Ласточки улетят быстрее — вот и все. Впрочем, в гнезде их остается еще немало.
— Может, ты и прав, кто знает?
Теперь стал ясен сокровенный смысл всего: загадочные слова Танкреди, риторические речи Феррары, лживые, но столь значительные высказывания Руссо раскрыли ему успокоительную тайну. Немало дел свершится, но все окажется лишь комедией, шумной и романтической, и лишь несколько капель крови останется на шутовском наряде. Эта страна, в которой все улаживается; здесь нет французского неистовства; но, впрочем, и во Франции, если исключить июнь сорок восьмого, тоже ведь ничего серьезного не случилось? Князь хотел было ответить Руссо, но удержала врожденная вежливость. «Я все отлично понял. Вы не хотите уничтожить нас, своих „отцов“. Вы только хотите занять наше место. Хотите сделать это мягко, по всем правилам хорошего тона, быть может, даже сунув нам в карман несколько тысяч дукатов. Не так ли? Твой внук, дорогой Руссо, будет искренне считать себя бароном, а ты, быть может, воспользовавшись своим именем, провозгласишь себя великим герцогом из Московии, хотя на деле имя твое означает лишь, что ты сын русоволосого крестьянина с юга. Но еще прежде дочь твоя выйдет замуж за одного из наших, хоть за того же голубоглазого Танкреди с изнеженными руками. Впрочем, она недурна и, если привыкнет мыться…»
Пусть все останется, как прежде… как сейчас; только незаметная смена сословий, не больше. Мои золотые ключи придворного вместе с вишневой лентой св. Дженнаро должны будут покоиться на дне ящика, — сын Паоло затем положит их под стекло; но Салина навсегда останутся Салина; и, может, даже получат кое-что взамен: место в сенате Сардинии, фисташковую ленту св. Маврикия. Вздор, все вздор.
Он встал.
— Пьетро, переговори со своими друзьями. Здесь столько девушек. Нельзя допустить, чтоб их напугали.
— Знаю, ваше превосходительство. Уже переговорил: на вилле Салина будет спокойно, как в монастырской обители. — И добродушная усмешка появилась на лице Руссо.
Дон Фабрицио вышел. За ним последовал Бендико. Князь хотел подняться к падре Пирроне, но умоляющий взгляд собаки заставил его спуститься в сад: волнующие воспоминания о превосходных трудах вчерашнего вечера еще тревожили Бендико, и пес, следуя добрым заветам искусства, стремился к их завершению. Сад благоухал еще сильнее вчерашнего, и в лучах утреннего солнца золото акаций не так сильно слепило глаза.
«Ну, а монархи, наши монархи? Что станет с преемственностью, законностью?» Эта мысль взволновала его на мгновение, уклониться от нее было нельзя. На миг он уподобился Мальвика. Столь презираемые им Фердинанды и Франциски вдруг показались старшими братьями, полными доверия, любви, справедливости, стали настоящими королями. Но силы, стоявшие на защите внутреннего спокойствия князя, бдительные его стражи, уже спешили на помощь, держа наперевес мушкеты права и подвозя артиллерию истории. «А Франция? Разве незаконен Наполеон III? Разве французы не живут счастливо при этом просвещенном императоре, который, разумеется, поведет их к вершине славы? Впрочем, давайте разберемся хорошенько. Разве Карл III был так уж на своем месте? И битва у Битонто была вроде той, что произойдет у Бизаквино или Корлеоне, или где-нибудь еще; в этой битве пьемонтцы надают нашим по шеям. Это будет одна из тех битв, которые ведутся за то, чтоб все оставалось таким, как есть. Впрочем, даже Юпитер не был законным правителем Олимпа…»
Совершенно очевидно, что государственный переворот, устроенный Юпитером для свержения Сатурна, должен был вернуть мысли князя к звездам.
Покинув запыхавшегося от стремительного бега Бендико, князь поднялся по лестнице, прошел по гостиным, где дочери вели беседу о подругах Спасителя (шелковые юбки дочек шуршали при вставании), затем снова поднялся по крутой лестнице и окунулся в потоки голубого света, заливавшие обсерваторию.
Падре Пирроне, храня на лице спокойное выражение священника, отслужившего мессу и выпившего чашку крепкого кофе с печеньем из Монреале, сидел за столом, погруженный в свои алгебраические выкладки. Два телескопа и три подзорные трубы, ослепленные солнцем, мирно покоились в черных чехлах, как звери, хорошо приученные к тому, что корм им дают лишь по вечерам.
Приход князя отвлек падре Пирроне от его расчетов и сразу же напомнил, как дурно с ним обошлись прошлым вечером. Он встал, почтительно поздоровался, — но не сумел удержаться от вопроса:
— Вы пришли исповедоваться, ваше превосходительство?
Князь, после сна и утренних бесед позабывший о ночном приключении, выразил удивление.
— Исповедоваться? Но ведь сегодня не суббота. — Затем припомнил и улыбнулся: — В сущности, падре, в этом даже нет нужды. Вы уже все знаете. — Но настойчивое желание князя сделать его своим сообщником вызвало раздражение иезуита.
— Ваше превосходительство, сила исповеди состоит не только в рассказе о содеянном, но и в раскаянии по поводу совершенных дурных поступков. Покуда же вы к нему не прибегли, не высказали его мне, вы пребудете в смертном грехе, все равно, известны мне или нет ваши поступки. — Иезуит вновь погрузился в свои абстрактные выкладки, старательно сдунув соринку с собственного рукава.
Политические откровения сегодняшнего утра вселили в душу князя столько покоя, что он лишь улыбнулся тому, что в иное время показалось бы ему наглостью. Князь распахнул одно из окошек башни. Природа выставляла напоказ свои красоты. Казалось, что все в ней, поднявшись на дрожжах жгучего солнца, потеряло собственный вес: море вдали стало большим одноцветным пятном, горы, ночью полные опасных ловушек, теперь походили на массы пара, вот-вот готового раствориться, и даже дома мрачного Палермо, притихнув, лежали у подножия монастырей, подобно овцам, льнущим к ногам пастухов. Даже иностранные суда, присланные в ожидании беспорядков и бросившие якорь на рейде, не смогли внести тревогу в это величественное спокойствие. Солнце в то утро тринадцатого мая, еще далекое от предельного накала, вело себя как подлинный властелин Сицилии: солнце яростное и обнаглевшее, солнце, подобное наркотикам, парализовавшее своими лучами волю человека, солнце, погрузившее все в рабскую неподвижность, в тяжелое оцепенение среди насилия, произвольного, как сновидения.
— Понадобится не один Виктор Эммануил, чтоб изменить состав чудодейственного питья, которое мы здесь глотаем.
Падре Пирроне встал, поправил пояс и подошел к князю, протягивая ему руку:
— Я был чрезмерно резок, ваше превосходительство. Сохраните свою благосклонность ко мне, но внемлите моим словам: вы должны исповедаться.
Лед был сломлен. Князь мог сообщить падре Пирроне о своих политических догадках. Но иезуит был весьма далек от того, чтоб разделить его надежды. Напротив, теперь он стал колюч.
— Словом, вы, знатные господа, хотите за наш счет, за счет церкви пойти на сговор с либералами, да что там с либералами, с настоящими масонами. И ясно, что наше имущество — единственное достояние бедняков — будет расхищено и преступным образом разделено между самыми наглыми из вожаков; кто же тогда подаст кусок хлеба несчастным, которых церковь сегодня еще поддерживает, указуя им путь?
Князь молчал.
— Как же поступят тогда, чтоб успокоить это отчаявшееся стадо? Я скажу вам, ваше превосходительство. Сначала им швырнут на потребу клочок земли, затем второй, а потом и все ваши поместья. Так свершится справедливость господня, хоть и руками масонов. Господь исцеляет больных телом, но где же окажутся слепые духом?
Несчастный иезуит дышал тяжело: искренняя боль при мысли о предстоящем разорении церкви соединилась в нем не только с угрызениями совести — ведь он снова не смог сдержать себя, — но и с опасением оскорбить князя, которого он любил, испытав на себе и бурные проявления его гнева, и безразличную ко всему доброту. Вот почему он теперь сидел, насторожившись, и поглядывал на дона Фабрицио, который щеточкой чистил телескоп и, казалось, был целиком поглощен своим занятием.
Вскоре князь поднялся, тщательно вытер тряпочкой руки; лицо его при этом лишено было всякого выражения; ясные глаза князя как будто внимательно изучали капельки масла, забравшиеся под ноготь. А внизу, вокруг виллы, разливалась, сверкая всеми красками, беспредельно величественная тишина; ее не нарушали, а лишь подчеркивали лай Бендико, где-то в глубине апельсиновой рощи затеявшего ссору с собакой садовника, и глухое, мерное постукивание поварского ножа которым внизу на кухне рубили мясо для обеда. Огромное солнце поглотило людские треволнения и суровость земли. Князь подошел к столу, за которым устроился иезуит, сел рядом с ним и принялся хорошо отточенным карандашом, брошенным священником в минуту раздражения, рисовать пышные бурбонские лилии. Князь глядел серьезно, но настолько спокойно, что опасения падре Пирроне мигом улетучились.