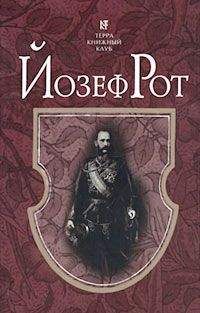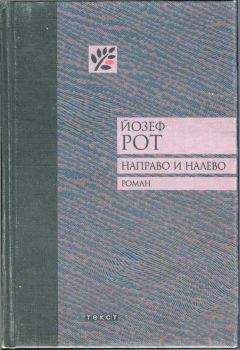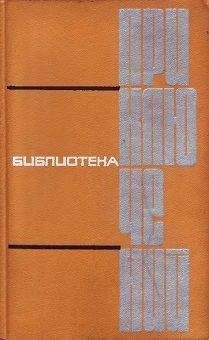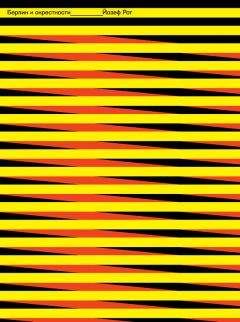Йозеф Рот - Отель «Савой»
Проносится весть, что Якову Штреймеру нужны германские марки.
Авель Глянц вошел в лавку, в которой какая-то женщина, по-видимому, ожидала покупателей: Женщина покинула свое место, раскрылась дверь, раздался резкий звук колокольчика. Какой-то человек вышел из лавки.
Глянц вернулся, сияя от радости: «У меня марки по одиннадцать и три восьмых. Хотите участвовать? Штреймер платит двенадцать и три четверти».
Мне хочется задать вопрос, но Глянц быстро запускает руку в мой боковой карман и с неприятною уверенностью вытаскивает оттуда мой бумажник. Затем он извлекает из него все деньги, сует мне пачку мятых бумажек в руку и говорит:
— Идемте!
— Десять тысяч, — говорит он, останавливаясь перед Яковом Штреймером.
— Этот господин? — спрашивает Штреймер.
— Да, господин Дан.
Штреймер кивнул головою,
— «Савой», — проговорил он.
— Поздравляю, господин Дан, — заявляет Глянц. — Штреймер пригласил вас.
— Как так?
— Да разве вы не слышали? Ведь он сказал: «Савой». Идемте! Если бы у вашего дяди Феба Белауга было большое сердце, вы могли бы пойти к нему, одолжить денег, купить германских марок — и через два часа вы заработали бы сто тысяч. Но он вам денег не даст. Теперь же вы заработали только пять.
— Однако и это много.
— Ничего не много. Много — миллиард, — говорит Глянц мечтательно. — Сейчас не существует понятия «много». Разве известно, что будет завтра? Завтра революция. Послезавтра явятся русские. Старые сказки оправдались. У вас сегодня в шкафу сто тысяч; завтра вы туда заглядываете — и там только пятьдесят тысяч. Такие чудеса совершаются ныне. Когда даже деньги уже больше не деньги! Чего вам еще нужно?
Мы пришли в «Савой». Глянц открыл маленькую дверь в конце коридора. Там стоял Игнатий.
Мы очутились в баре, помещавшемся в выкрашенной в темно-красный цвет зале. За стойкой стояла рыжеволосая женщина, а несколько разодетых девушек сидели в одиночку за маленькими столиками и тянули лимонад через тонкие соломинки.
Глянц поклонился:
— Здравствуйте, госпожа Купфер, — и представил нас друг другу: — Господин Дан — госпожа Иетти Купфер, альма-матер. Это — по-латыни, — говорит он госпоже Купфер.
— Знаю, вы — человек образованный, — отвечает госпожа Купфер, — но вам следует побольше зарабатывать, господин Глянц.
— Вот она уже мстит мне за мою латынь! — Глянц устыдился.
В зале царила полутьма. В одном углу красноватым светом горела висячая лампа. Черного дерева рояль стоял пред небольшою сценою. Я выпил две рюмки водки и опустился в кожаное кресло. Перед стойкой сидело несколько господ. Они ели бутерброды с икрой. Тапер подсел к инструменту.
VIIIМы сидели за маленькими столиками. Между всеми нами установлена тесная связь. Мы представляем одну большую семью. Мадам Иетти Купфер звонит в серебряный колокольчик, и на сцену выходят совершенно голые женщины. Воцаряется тишина, свет потухает, стулья сдвигаются. Публика смотрит на подмостки. Девушки молоды, и их стройные члены покрыты пудрою. Танцуют они плохо, склоняются и выпрямляются в такт мелодии, каждая по своему личному усмотрению. Среди них — их десять — обращает на себя мое внимание худощавая невысокая особа, имеющая едва скрытые пудрою веснушки и испуганные голубые глаза. Ее тонкие ноги кажутся хрупкими, ее движения неуклюжи и робки, руками она тщетно старается прикрыть свои груди, маленькие и острые, и постоянно дрожащие, как молодые, зябнущие зверьки.
Затем снова мадам Иетти звонит в свой серебряный колокольчик, танец прекращается, тапер заканчивает бравурною трелью, подается свет, и тела девушек равномерно отступают на полшага назад, как будто бы их наготу раскрыл только-что зажегшийся свет. Они поворачиваются, чтобы гуськом уйти со сцены. Мадам Иетти зовет: «Тоня!» Спустилась Тоня, маленькая девушка в веснушках. Мадам Иетти Купфер покинула стойку бара и спустилась к нам, как из облаков. Она распространяет вокруг себя сильный запах духов и ликеров и представляет девушку собравшимся:
— Мадемуазель Тони, наша новенькая!
— Великолепно! — воскликнул один господин. Это был некто господин Каннер, фабрикант анилина, как пояснил мне Глянц. «Тонька», — сказал он, прищелкнул в довольном настроении большим и указательным пальцами, протянул левую руку и стал искать бедра девушки.
— Куда же девались девушки?! — кричит Яков Штреймер. — И что это вообще за манера прислуживать? Тут сидят господа Нейнер и Ансельм Швадрон, и с ними обходятся, не скажу, как…
Игнатий неслышно проскользнул по зале и, вернувшись с пятью голыми девушками, распределил их по пяти столам. Мадам Купфер сказала: «На стольких гостей мы не рассчитывали».
Ансельм Швадрон и Филипп Нейнер, фабриканты, одновременно встали, подозвали к себе двух девушек и заказали шампанского.
Вошел новый гость, встреченный всеми громким криком. Девушки казались забытыми. Они сидели на небольших стульях, подобные сброшенной верхней одежде.
Гость восклицает:
— Бломфильд сегодня в Берлине!
— В Берлине! — повторяют все.
— Когда он приезжает? — вопрошает фабрикант анилина Каннер.
— Он может прибыть каждый день! — отвечает новоприбывший.
— И как раз теперь моим рабочим угодно бастовать! — заявляет Филипп Нейнер, немец. Это высокого роста, рыжевато-светлый блондин с воловьей шеей и круглым жирным детским лицом.
— Пойдите на соглашение, Нейнер! — восклицает Каннер.
— Двадцать процентов надбавки для семейных? — спрашивает Нейнер. — А вы в состоянии заплатить такие деньги?
— Я плачу прибавку за каждого новорожденного, — ехидно отвечает Каннер. — И с тех пор моих рабочих посетила благодать насчет детей. Всем своим врагам я желаю таких плодовитых рабочих. Парни сами себя обижают, это я вечно проповедую им, но рабочий из-за двух процентов надбавки к содержанию теряет рассудок и готов наготовить мне кучу детей.
— Но и вы готовы сделать ему то же! — заявляет Штреймер спокойно.
— Фабрикант — не комиссионер по продаже домов! Заметьте себе это! — бурчит Филипп Нейнер.
Когда-то он служил в гвардии вольноопределяющимся.
— Это дуэлянт, — заявляет Глянц.
— Больше, чем фабрикант, — говорит Штреймер. — Но здесь не Пруссия.
Игнатий врывается в залу, держа в руках телеграмму. Он любуется любопытствующим молчанием всего общества в течение двух-трех секунд. Затем он говорит тихо, еле внятно:
— Депеша от господина Бломфильда. Он приезжает в четверг и заказывает номер тринадцатый.
— Тринадцатый! Бломфильд суеверен, — поясняет Каннер.
— У нас имеются только номера двенадцатый «А» и четырнадцатый, — говорит Игнатий.
— Нарисуйте тринадцатый, — замечает Яков Штреймер.
— Колумбово яйцо! Браво Штреймер! — восклицает примирение Нейнер и протягивает Штреймеру руку.
— Я — комиссионер по продаже домов, — отвечает тот и прячет руку в карман брюк.
— Прошу без ссор! — кричит Каннер. — Раз едет Бломфильд.
Я отправляюсь на седьмой этаж. Мне внезапно представляется, что я непременно встречу Стасю. Гирш Фиш выходит из комнаты со своим ночным горшком.
— Бломфильд едет! Вы этому верите?
Я уже не слушаю его.
IXСанчин внезапно захворал.
«Внезапно», — говорят все, не зная того, что Санчин умирал беспрерывно в течение десяти лет, изо дня в день. В лагере под Симбирском, год тому назад, кто-то так же внезапно умер. Это был маленький еврей. Однажды после обеда, чистя свою посуду, он свалился на пол мертвым. Он лежал на животе, раскинув руки и ноги, и был мертв. Тогда кто-то сказал: «Эфраим Кроянкер внезапно умер».
— Номер 748 внезапно заболел, — говорят номерные лакеи. В трех верхних этажах отеля «Савой» вообще не существовало имен. Все назывались по номерам занимаемых комнат.
Номер 748 — это Санчин, Владимир Санчин.
Полуодетый, он лежит на кровати, курит и отказывается от врача.
— Это — фамильная болезнь, — говорит он. — Легкие. У меня они, может быть, и остались бы здоровыми; когда я родился, я был крепкий парнишка и орал так, что акушерке пришлось заткнуть себе уши ватой. Но из злости, а, может быть, и от того, что в маленькой комнате не было места, она положила меня на подоконник. И с тех пор я кашляю.
Санчин лежит на кровати в одних только брюках и босой. Я вижу, что его ноги грязны и что их пальцы обезображены мозолями и всевозможными неестественными искривлениями. Его ноги напоминают странные лесные древесные корни. Его большие пальцы согнуты и опухли.
Он отказывается от врачебной помощи, потому что его дед и отец также умерли без врача.
Появляется Гирш Фиш с предложением целебного чаю. Он рассчитывает продать этот чай по «хорошей цене».
Видя, что никому его чая не нужно, он зовет меня в коридор: