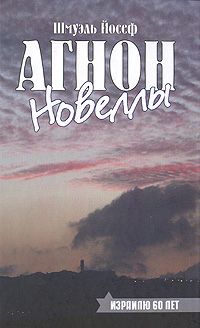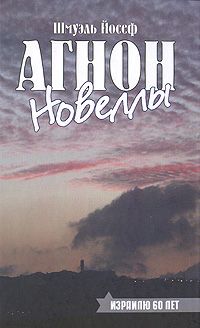Шмуэль-Йосеф Агнон - Простая история
Гиршл завтракал. Белая скатерть прикрывала половину стола, но он не замечал ни этой половины, ни другой. Перед его глазами была Блюма, которая только что молча вышла из столовой.
«Вижу, что у тебя ко мне счет, — подумал Гиршл. — Если ты затеяла игру в молчание, поверь мне, в нее можно играть вдвоем. Я тоже стану молчать». На самом деле счет вел именно он, сын и внук лавочников, людей, привыкших взвешивать и отмеривать всякий товар. И напрасно он надеялся, что может играть в ту же игру, которую придумала Блюма, — при первой же возможности слова хлынули сами собой. У Блюмы был такой страдальческий вид, что он просто обязан был что-то сказать, и он последовал за ней в ее комнату.
— В чем дело, Блюма? — спросил он.
Блюма сидела на стуле, продолжая молчать.
Стул этот был единственным в комнате, поскольку не предполагалось, что в ней будут принимать гостей. Гиршлу ничего не оставалось, как стоять посреди комнаты. Губы его дрожали, будто он хотел что-то добавить, но одному Богу известно, что именно. Ему казалось, что стены комнаты сдвигаются и давят на него. Как близок он был к ней, и как далека от него она. Однако не так уж и далека! Стоило только протянуть руки, и она станет ближе, чем когда-либо.
В конце концов он подчинился своему сердцу, протянул руку и попытался примирительно взять ее за руку. Но прежде чем он успел это сделать, девушка выскользнула из комнаты.
Сам он еще некоторое время стоял в замешательстве. Блюмы здесь не было, но тем явственней он ощущал ее присутствие. В комнате сохранялся ее запах, запах яблока, только что упавшего с дерева.
Мир перестал существовать: возможно, прошла тысяча лет. Он не двигался, всем своим существом впитывая сладость меда. Трудно сказать, сколько это продолжалось. Вдруг чья-то рука коснулась его головы, погладила волосы. Кто из вас не догадался, что это была Блюма? Гиршл пришел в себя и поспешил выйти из комнаты.
Он стал молчаливым. Оставаясь один в лавке, смотрел пустым взглядом в пространство и не видел ничего вокруг себя. Лавка, набитая товаром, принадлежавшим его родителям, со временем будет принадлежать ему, их единственному наследнику, но это не вызывало в нем ни гордости, ни радости. В голове его теснились другие, более тревожные мысли.
Гиршл не разговаривал и с Блюмой. Оказываясь с ней наедине, он терялся. Бывало, они не сталкивались друг с другом по нескольку дней. Золотой лучик надежды, сверкнувший из-под ее ресниц, когда она смотрела на него, не давал ему покоя.
Блюма, как обычно, выполняла свои обязанности по хозяйству: пекла, жарила, мыла, штопала. Она делала все в доме, разве что не скребла полы — нельзя же требовать этого от родственницы! Одним словом, она была членом семьи. Многие девушки с радостью поменялись бы с ней местами, она же, казалось, не понимала, как ей повезло в жизни. Улыбка исчезла с ее лица, губы были полуоткрыты, будто она что-то говорила и ее внезапно прервали или она вот-вот вскрикнет.
Отец Небесный, наблюдая горе Блюмы, подсказал Гиршлу, что ему следует приблизиться к девушке. Господь сотворил его честным человеком. В натуре Блюмы тоже не было лукавства. Наконец они оба сбросили с себя обет молчания. Гиршлу надо было много сказать Блюме, а она охотно его слушала. Он говорил о самых тривиальных, ничего не значащих вещах, и ей доставляло удовольствие слушать его. Пусть соловей поет что угодно, подруга никогда не устанет слушать его. И хотя Гиршл по-прежнему начинал всякий тет-а-тет со вздоха, этот вздох означал лишь одно: Отец Небесный милостив и не станет чинить нам препятствий, тем не менее мы должны соблюдать осторожность, чтобы не огорчить родителей.
Собственно, скрывать им нечего было. Но Гиршл был приличным юношей, и чем честнее он относился к порядочной еврейской девушке, тем больше он считал себя обязанным не обнаруживать своих чувств к ней.
(Это замечание требует, по-видимому, разъяснения и даже иллюстрации на конкретном примере. Беда в том, что любая иллюстрация опять вернет нас к Гиршлу и Блюме.)
И все-таки Цирл стала что-то замечать. Если бы Гиршл не пытался скрыть свою влюбленность, она никогда не придала бы ей значения. Но Тот, Кто вселил в сердце Гиршла любовь к кузине, не снабдил его сообразительностью, отличавшей его мать.
VI
Цирл видела, что происходит с сыном, и молчала. Тот же здравый смысл, который внушал ей: «Мальчик не сумасшедший, чтобы серьезно влюбиться в сироту-бесприданницу», заставлял ее хранить молчание. Пусть себе пока флиртует с Блюмой, думала она, вырастет — подыщем ему подходящую пару. Поэтому она делала вид, что ни о чем не догадывается, не обсуждала этот вопрос с Гиршлом и не пыталась держать его подальше от Блюмы. Напротив, она была даже благодарна Блюме за то, что та удерживает ее сына вдали от других девушек, ибо даже в Шибуше, как ей было известно, нравственность молодежи уже не та, что прежде. Пока Гиршл не нашел себе спутницу жизни, пусть будет Блюма, по крайней мере, не попадет в плохие руки!
Когда же прошел слух, что в Шибуш очень скоро прибудет призывная комиссия, Цирл решила: если попадется представляющая интерес девушка, она не станет откладывать свадьбу до отъезда комиссии из города. Прощаясь с побывавшим в ее лавке Йоной Тойбером, она ему сказала:
— Между прочим, у Гедальи Цимлиха есть дочка Мина. Вы не считаете, герр Тойбер, что над этим стоит подумать?
Йона Тойбер вынул бумагу и табак, свернул себе папиросу, разломал ее пополам, одну половину спрятал во внутренний карман своего пальто, другую воткнул в маленький мундштук, вышел из лавки, вновь показал свою голову в ней, зажег папиросу и ушел окончательно.
Цирл потерла руки, как это делал ее муж, когда у него появлялась причина быть довольным собой.
…Йона Тойбер был посредником по брачным делам. Непосвященному могло показаться, что он никого никогда не сватал, в действительности же никто в Шибуше не женился и не выходил замуж без его помощи. Правда, если кто-либо в его присутствии упомянет, что у него сын достиг брачного возраста и что он подумывает о дочери такого-то и такой-то, Тойбер не снисходил до ответа, как будто такие занятия были ниже его достоинства. На следующий день он как бы случайно обязательно попадется навстречу тому молодому человеку, о котором шла речь, и, прежде чем они расстанутся, между ними установятся такие приятельские отношения, что сердце юноши станет мягким воском в руках Йоны. Не то чтобы Йона когда-либо кому-то что-либо предписывал — достаточно было проронить словечко-другое, а уж остальное складывалось само собой. И не имело значения, если молодой человек считал, что влюблен в другую девушку. Йона умел внушить ему любовь к той, которую, по мнению родителей, следовало любить. В конечном итоге юноша как бы сам определял свой выбор, а Йона попросту одобрял его.
В Шибуше некоторые образованные люди высмеивали обычай устраивать браки, при этом они не подозревали, что их собственные семьи являлись творениями рук Йоны.
Когда-то Йона Тойбер был одним из тех способных молодых людей Шибуша, обучавшихся на раввина в старой ешиве. Однако, направляясь в Лемберг для сдачи экзамена, чтобы получить ученую степень, он остановился в гостинице, где увидел человека, читавшего книгу по географии. Йона заглянул в книгу и был потрясен: сколько же в мире городов и стран, названий которых он даже не слыхал! Пока он читал этот труд по географии, у него кончились все деньги, и ему пришлось вернуться домой, так и не повидав Лемберга.
Приобретенные знания не подорвали в нем благочестия, а благодаря им сумела проявиться новая сторона его натуры. Проснувшись ночью, он взял перо, чернильницу, бумагу и стал писать, писал он до самого утра. В тот день в Шибуш прибыл какой-то человек, которому Йона показал написанное. Проезжий прочел материал и отправил его в Лемберг Йосефу Коен-Цедеку, и тот напечатал его в еврейском обозрении «Орел».
Статья Тойбера была в некотором смысле загадкой. Если имелась в виду география, то к чему была вся эта доморощенная философия? А если она задумывалась как философская, зачем было приводить факты из области географии? Однако в те дни, когда Йона Тойбер был молод, а редактором «Орла» был Йосеф Коен-Цедек, философия пробивалась в самых неожиданных местах. Если бы Йона жил среди хасидов, они, вне всякого сомнения, сожгли бы его писанину.
Однако в старой шибушской ешиве, где традиционно интересовались теми временами, когда в благочестивых евреях, даже если они и занимались мирскими делами, благочестие преобладало над практицизмом, когда, молясь, старались произносить каждую букву святого языка правильно, а не глотать отдельные буквы, а то и целые слоги, как это делает большинство евреев, и сами ангелы не разберут что к чему, — в статье Йоны Тойбера не было замечено ничего предосудительного. Напротив, экземпляры статьи раскладывались на партах в ешиве, и ученики разбирали в ней фразу за фразой. Когда было установлено, что со стороны грамматики придраться не к чему, Йоне стали публично воздавать хвалу.