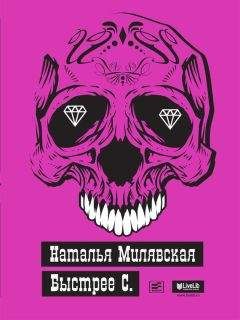Сэмюэль Беккет - Мечты о женщинах, красивых и так себе
У нее была худая шея и пустая голова. Faciem, Phoebe, cacantis habes.[51] Когда ее водили в ресторан, она имела обыкновение блевать, правда, делала это изящно, в салфетку, а все потому, что, как считалось, висцеральные муки делали ее невосприимчивой к еде и питью. Взять ее под руку, плыть рядом с ней, не попадая в шаг, по асфальту, было все равно что упасть в музыку, в медленном невыразимом полете сновидческого ныряльщика врезаться в щедрую, страшную водную гладь. Ее фация была что ползучее растение, что позорный стул в шотландской церкви, что cavaletto,[52] он дрожал будто на трамплине, чуть прогибаясь, обреченно зависнув над сказочной водой. Утонет она или выплывет в этом колодце Дианы? Зависит от того, что мы подразумеваем под девой.
В молодых мыслях Белаквы, противостоявших его собственным интересам, в мыслях неестественно путанных, Смеральдина-Рима и Сира-Куза подвергались теперь сравнению, примерно так же, как на контрольные весы могут встать позже Люсьен и Шас. Бремя его рассуждений состояло в том, что:
здесь, в данной категории (юбки), существует два независимых объекта: справа от меня -
мощная Смеральдина-Рима, слева — более изящная Сира-Куза. Обе — красивы, постольку поскольку я язычески замираю как перед первой, так и перед второй, я стою как вкопанный. Если некое общее свойство, которое приводит в движение или, точнее, останавливает меня, — не красота, значит, это нечто другое. Впрочем, это буквоедство. Важно то, что я могу (ведь верно?) предположить, будто улещиваниями заставлю эти две драгоценные меры дискретного количества произвести на свет мельчайшую общую составляющую, в которой, как следует ожидать, и пребывает сокровеннейшее ядро и чистое воплощение оккультной силы, что завораживает меня, приводит меня в состояние языческой бездвижности, — ядро красоты, если мы говорим о красоте, по крайней мере в данной категории (юбки).
Но, бедный Белаква, неужели вы не сознаете, что сущность красоты безутвердительна, что красота проницает все категории?
Бедному Белакве и впрямь как-то пришло в голову, что так оно и есть.
Но мне бы очень хотелось понять, продолжает он, как распоряжаться разнородными сущностями. Родственные объекты, одноплеменные, сходные по типу — они, представляется мне, могут быть сведены к некой глубинной общей точке расходимости. Где-то там лежит магическая точка, в которой раздваивается облаченная в юбку красота, позволяя и мне, и всем, у кого есть глаза, видеть, по одну руку, Смеральдину-Риму, тяжелую брюнетку, а по другую руку — Сира — Кузу, брюнетку полусреднего веса. Но сопоставить, скажем, объем с расстоянием, прекрасную курицу, скажем, с прекрасной сухой иглой гравера… Иди ты! Ни один узел не способен расщепиться — тут на красоту птицы, там на красоту сухой иглы. (Если предположить, что сухой игле может быть присуща красота.) Я не способен вывести из основания Аа, где А — курица, а а — сухая игла, треугольник с желаемой вершиной, потому что (надеюсь, вы по достоинству оцените мою неспособность) я не могу вообразить себе основание Аа.
Несчастный Белаква, вы не ухватили нашу мысль, ту самую мысль: красота, при конечном рассмотрении, не подпадает под категории, она вне категорий. Есть только одна категория, ваша, которая происходит из вашего же статического равновесия. Подобно тому, как все мистики, независимо от символа веры, цвета и пола, пресуществляются в безверного, бесцветного, бесполого Христа, так и все категории красоты сплавляются в вашу категорию. Примите это, голубчик, от нас в подарок: красота неповторима и uni generis,[53] имманентна и трансцендентна, totum intra omnia, голубчик, et totum extra,[54] с центром везде и окружностью нигде. Набейте этим свою трубку, дорогой друг, и медленно затянитесь.
Однако в молодых мыслях Белаквы, неестественно путанных, а потому противостоявших, как мы упоминали, его истинным интересам, — все равно что размножение кретинских причуд а-ля Neue Sachlichkeit,[55] — двух девушек непременно нужно было сравнить, подобно тому как, на более поздней стадии, сравнению могли бы подвергнуться Люсьен и Шас.
Тут вдруг все это потеряло смысл, перестало заслуживать даже брани, даже брани ломового извозчика, все эти люди, Смерри, Сира, Люсьен, Шас, ну и имена! Песок на ветру. Все равно. Утробы, что носят меня, и утробы, что носили меня, и arces formae[56] и arses formae.[57] Egal.[58] EGAL. Суматошная горсть песка в мистрале. (Его мысль была молодой, и еще не было Альбы, только имя, волшебное имя, заклинание, абракадабра, два толчка, т, т, дактиль трохей, дактиль трохей, на вечные времена.).[59] Они глубоко затягивались чертами своих лиц, своим драгоценным маленьким жаждущим закутанным ханжески стыдливым телом, они выдавливали из себя мнение, они позволяли мнению вытечь через сопло ложной скромности и хорошего воспитания: «Мне кажется…» Вас забрызгали с головы до ног. Затем вы приводили себя в порядок, бодрый гомункул, вы раздвигали бутон губ, pompier,[60] cul de coq,[61] и сочились фразой: «Готов согласиться с вами…», «Боюсь, что не могу вполне с вами согласиться…» Если только, конечно, они не были слишком заняты, делая с вами что-то противное, если только они не насиловали вас, не трясли вашу руку, не терлись о вас как кошка во время течки, не похлопывали вас по плечу, не обнюхивали или не прыгали на вас как кошка или собака, всячески вам досаждая или же заставляя вас совершить некое действие — покушать, или отправиться на прогулку, или залезть в кровать, или вылезти из кровати, или стоять, или шагать, если только они не были слишком заняты, досаждая вам или понуждая вас досадить самому себе, дабы иметь возможность отворить сопло ложной скромности и хорошего воспитания.
Quatsch quatsch quatsch. Песок, уносимый мистралем, скворцы, изорванные вьюгой необорной,[62] лопающиеся от надежд, веры, милосердия и благих дел, несказанно довольные тем, что смогли сделать то-то, и несказанно гордые оттого, что смогли сказать то-то, обоняющие вас, и хватающие вас, и совершающие с соплом всяческие благопристойные гадости.
Vuolsi cosi cola, dove si puote
cio che si vuole, e piu non dimandare…[63]
Cola?[64] И где же это там может быть, если, конечно, вопрос не слишком грубый? За газовым заводом, голубчик, за газовым заводом.
От голубых глаз дома приходили деньги, и он тратил их на концерты, кино, коктейли, театры, аперитивы, в частности на крепкий и неприятный Мандарин-Кюрасао, вездесущий Фернет-Бранка, который ударял в голову и успокаивал желудок и был похож на рассказ Мориака, на oxygene[65] и Реал-Порто, да, Реал-Порто. Но не на оперу, нет, никогда и ни при каких обстоятельствах, если только его не тащили туда волоком, не на оперу и не на бордели. Либер заставил его пойти на… «Валькирию», билет за полцены. Une merveille![66] Им дали от ворот поворот. Белаква долго-долго смеялся.
— Ступайте домой, — сказали им вежливо, — и переоденьте свои велосипедные брюки.
Либер распахнул пальто.
— Мои брюки гольф, — кричал он, — мои великолепные брюки гольф.
— Ваш друг, — объяснили они, одобрив грязно-коричневые штаны Белаквы, — нам подходит. Вы — нет. Вы должны уйти.
Белаква выпятил живот. Образцовый вагнерит в гольфах, которого не взяли на конную прогулку!
— Надень мои, — упрашивал он, — а я возьму твои. Пойдем переоденемся в «Бьярде», через дорогу. Я не горю идти в оперу.
Он стоял в вестибюле Национальной академии музыки и живо предлагал задыхающемуся от гнева Либеру свои многоуважаемые брюки. Напрасно он умолял Либера взять его брюки, напрасно говорил, что они в его исключительном распоряжении на весь оставшийся вечер, что он может делать с ними все что заблагорассудится. Нет, отказывался тот, ни в коем случае. Кто вообще этот Вагнер?
— Кто такой Вагнер? — сказал Белаква.
— Вот именно, — раздраженно отвечал Либер, — кто он вообще такой?
— Он — ревущая Мег,[67] — сказал Белаква, — которая изгоняет меланхолию.
И не на бордели…
Что, поистине, вводит нас в очень чувствительную область и требует разъяснений сложных и деликатных, избежать которых, увы, не удастся. Prima facie[68] это нас шокирует. Мы поместили нашего главного мальчика в это веселое место и при этом настаиваем, чтобы он избегал местных борделей. Для начала это шокирует. И мы страшно боимся, как бы все течение его жизни в этот период, когда мы займемся соответствующим описанием и попытаемся елико возможно сдержанно и мягко, сообразно предоставленным нам привилегиям, поведать вам о мотивах, принуждавших его к неким заключениям и действиям, которые позволяли ему очень успешно, ох успешно и преотлично, уклоняться от этих превосходных учреждений удовольствия и гигиены, мы страшно боимся, сказали мы так давно, так давно, что недурно было бы повторить это вновь, как бы его поведение показалось не просто шокирующим, но положительно choquant.[69]