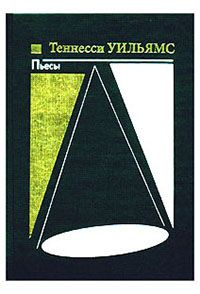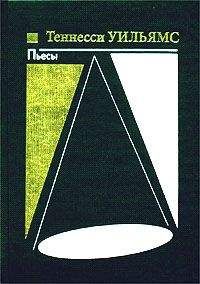Теннесси Уильямс - Римская весна миссис Стоун
Жара все усиливалась, и потому движения длинных прохладных пальцев Ренато делались все приятней для его молодого клиента. Процедура начиналась с бритья, затем следовал массаж: Ренато попеременно накладывал на лицо своего любимца то горячие полотенца, то холодящие маски с ментолом, и тот блаженствовал. Юная кожа Паоло цвета густых сливок (и такая же нежная на ощупь) была безупречна. Так что с точки зрения косметической массаж был вполне бесполезен, но, по молчаливому сговору с Ренато, Паоло делал его просто ради блаженства, которое он ему доставлял, а еще – ради беседы: прикосновения пальцев Ренато к его лицу, естественно, сообщали ей особую интимность. Во время бритья и массажа Паоло – а для уроженца Южной Италии он был довольно высокого роста – сидел глубоко в кресле, ноги расставлены, одна рука покоится на паху, средоточии его плоти, лежит там, словно провод, подключенный через розетку к сети специально для того, чтоб придавать напряжение и яркость беседе, неизменной темой которой были любовные похождения – то, что давало юному графу Паоло средства к существованию и составляло весь его смысл. Ленивое дремотное блаженство этих бесед между двумя молодыми людьми длилось вот уже около года. Паоло рассказывал (в каждое посещение – отдельный выпуск) историю своих отношений с тремя «покровительницами»: сперва с синьорой Кугэн (дело было прошлым летом) и почти одновременно со сказочно богатым евреем, бароном Вальдхеймом (этого они называли между собой баронессой и говорили о нем так, словно он женщина), затем – с американкой из высшего общества миссис Джемисон-Уокер, интрижка с которой была короткой, но необыкновенно успешной (правда, в Танжере супруг этой дамы поставил ему синяк под глазом, но к тому времени Паоло успел получить от нее в подарок рубиновые запонки и выручить за них две тысячи пятьсот долларов), а теперь, вот уже несколько месяцев – с миссис Стоун, с которой он рассчитывал сорвать намного больше, чем с трех предыдущих, вместе взятых, ибо из всех них она была самой богатой и единственной, у кого он, по всей видимости, вызывал не просто похоть, а интерес куда более глубокий.
Паоло был всего-навсего молодой и тщеславный светский хлыщ и потому видел лишь то, что лежит на поверхности, ему но дано было понять натуру более сложную, нежели он сам. Он оглядывал человека только раз, при первой встрече, и сразу же запоминал его внешность настолько прочно, что у него не было надобности смотреть на него вторично. Отчасти из кокетства, а отчасти от глубочайшего безразличия ко всему, что не он сам, Паоло не смотрел людям в лицо, лишь изредка бросал на них томный невидящий взор, подкрепляя им просьбу или подчеркивая заданный вопрос. Но даже Паоло, почти начисто лишенный чутья, понял, что миссис Стоун мучит тоска необычного свойства и остроты и что из этой тоски такой юный искатель приключений, как он, отнюдь не отличающийся щепетильностью, может извлечь немалую выгоду, если только ему удастся взять приступом возведенную ею стену условностей (довольно, впрочем, невысокую) и прорвать все линии ее обороны. А вот линии обороны у миссис Стоун были поистине устрашающие. Она прожила на свете вдвое больше, чем Паоло, и, будучи актрисой, перевидала на своем веку изрядное число смазливых юнцов с томной грацией, только и знающих что смотреться в зеркало. В прошлом они нисколько ее не интересовали, но породу эту она знала хорошо. Ей даже нравилось подбирать себе для сцены именно таких партнеров – ведь им было не под силу хоть в чем-то ей противостоять. Когда имеешь с ними дело, так и кажется, будто суешь палец в меренгу, пытаясь нащупать нижнюю корочку. А вместе с тем они вполне годятся на то, чтобы подыгрывать. Такие не воспламеняются сами и не зажигают партнершу. Играя с ними, всегда знаешь, чего от них ждать, и можешь их укротить мановением руки. А укрощать их так забавно! Иной раз приятно было, стоя в кулисах, взять юные влажные ладони партнера в свои и шепнуть: «Не надо нервничать! У каждого спектакля есть начало, а у некоторых еще и конец…» В уборных у них всегда хорошо пахло, от их тел почему-то не исходил мужской запах мускуса, а если и исходил, то не настолько сильный, чтобы пробиться сквозь аромат хвойного одеколона и талька. Миссис Стоун даже питала к ним известную симпатию: основанная на сознании, что в ее власти их уничтожить, симпатия эта была тем теплее, что к ней примешивалось презрение.
Но отождествлять Паоло с юнцами, которых она, в бытность свою актрисой, так легко себе подчиняла, миссис Стоун удавалось лишь в самом начале их знакомства. Вскоре она обнаружила, что он кое-чем от них отличается. Почему-то при всей своей капризности и томности он не казался женственным. Сквозь пряные ароматы лосьонов и розовой воды все-таки пробивался запах мускуса, признак его пола, а хотя миссис Стоун и твердила, что в людях очень молодых запах этот ее отталкивает, у нее была к нему обостренная чувствительность. Она ощутила его при первой же встрече с Паоло и сказала себе, что дух мускуса неприятен, но в дальнейшем порою ловила себя на том, что стоит подле Паоло с единственной целью – снова вдохнуть этот запах, задерживается около молодого итальянца и после того, как он поднесет огонек к ее сигарете, и после того, как она подаст ему рюмку вина, – так и стоит рядом с ним, словно задумалась о чем-то.
Особенно волновали ее руки Паоло. В библиотеке, на столике перед диваном, стоял светящийся глобус (внутри у него была электрическая лампочка). И порою, когда руки Паоло покоились на обтянутых сержевыми брюками бедрах, словно зачарованные ощущением собственного молодого тела, они казались ей большими и сверкающими, будто полушария светящегося глобуса, и она грезила о том, как они лягут ей на грудь и согреют своим теплом.
И все же миссис Стоун по-прежнему держала оборону. Волнующие эти открытия лишь смутили ее и заставили насторожиться еще больше. Когда Паоло привозил ее домой ночью, она неизменно прощалась с ним внизу, у двери; при расставании бывала несколько напряжена – порою до такой степени, что даже не подавала ему на прощание руки. Миссис Стоун понимала (как понимал и Паоло), что при таких обстоятельствах проявить напористость – значит лишить себя существенного преимущества. Ведь красота, его козырная карта, когда-то была и у нее на руках, была долго-долго, и хотя в минуты откровенности с самой собою миссис Стоун отдавала себе отчет в том, что карта эта ушла от нее, тем не менее она по-прежнему вела такую жизнь и держалась в обществе так, словно все еще обладает ею. То и дело давала она Паоло понять – столь же ясно, как и он ей, – что больше привыкла получать знаки внимания, нежели их оказывать.
В тот ранний вечер, когда они повстречались впервые (в апартаменты миссис Стоун Паоло привезла некая престарелая графиня-итальянка), он положил под пепельницу на каминной полке свою визитную карточку с графским гербом. В одном углу карточки был вытиснен адрес, в другом – телефон, но день шел за днем, а миссис Стоун все не звонила и не упоминала его имени в разговорах с графиней, с которой в ту пору виделась постоянно. В конце концов графиня признала, что обычная тактика здесь не годится и первый шаг придется сделать ему самому. «Эта женщина до сих пор сохранила всю свою гордость, – сказала графиня, – она еще не примирилась с тем, что стареет». Когда Паоло впервые позвонил миссис Стоун, графиня сидела рядом и всячески его подстегивала – делала знаки, шепотом давала советы. Однако звонок этот не имел никаких ощутимых последствий. Миссис Стоун говорила с Паоло дружелюбно, была приветлива и ровна. Вспомнила его сразу. И даже упомянула о визитной карточке, которую он оставил на камине. Но, вопреки ожиданиям Паоло и его советчицы-графини, не пригласила ни на коктейль, ни на обед. Пришлось ему самому пригласить ее обедать. И выложить деньги за обед из своего кармана. Миссис Стоун не скрывала, что его общество ей приятно, но проявлять инициативу по-прежнему предоставляла ему. И только недавно пошла на уступку: позвонила Паоло по телефону. То было единственное проявление активности с ее стороны, и оно пока не давало ему никакого перевеса. А между тем Паоло, без всяких на то оснований, успел намекнуть своим друзьям на виа Венето, что миссис Стоун его любовница. Он и вправду читал в ее глазах желание, однако там оно и пребывало, словно бы за окном или в Зазеркалье. И не выскакивало оттуда: она не клевала на самые хитроумные его приманки. Ни томные взоры, ни соблазнительные позы одалиски, которые он принимал, – ничто на нее не действовало. Тогда он пустил в ход приманку попроще. Как-то вечером схватил ее унизанную перстнями руку и прижал к своему колену. Сперва прижимал крепко, потом послабее, но пальцы ее задержались у него на колене минуту-другую, не больше. Затем миссис Стоун осторожно высвободила руку и положила на прежнее место – к себе на колени. При этом она отнюдь не выглядела потрясенной.