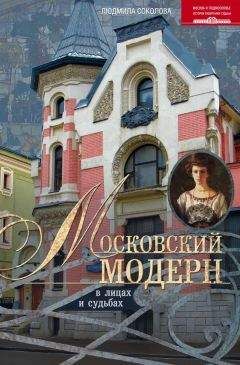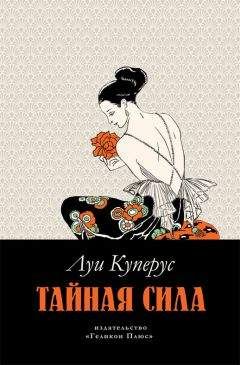Рихард Вайнер - Банщик
— Мой отец — богатый крестьянин в Полабье. Как и у многих людей его типа, лицо у него сложено из множества мускулистых граней, которые он словно сам и лепил, и закалял. Люди сказали бы: настоящий крестьянин, труженик с простыми животными инстинктами. И это верно. Но вместе с тем терзаемый страстями, придирчивый и настолько обуреваемый алчностью, что ему пришлось превратить свое лицо в неподвижную маску, чтобы заниматься сотнями своих дел, обманывая весь мир и особенно мать, женщину богобоязненную и очень чувственную. Да, не удивляйтесь: богобоязненную и очень чувственную. Я младший из трех их сыновей. О братьях мне известно немного. Нас разъединили не какие-либо разногласия, а естественные жизненные обстоятельства. Насколько я их успел узнать, они мне скорее нравились. Они были жадны до жизни. Жили, точно дикие звери, хотя сами того, конечно, не осознавали. Оба не упускали случая покорить женщину — точно так же, как и случая обогатиться. В них, несомненно, была от природы заложена широкая гамма чувств и мыслительных способностей, но она была именно широкой, а не глубокой. Каждый из них шел своим путем — обыденным и неприметным, и когда они уезжали из родных краев, один в Америку — в качестве спутника некой знаменитой певицы, а второй, неизвестно зачем, куда-то в российскую глубинку, их сердца наверняка не забились сильнее обычного. На обоих моих старших братьев отец растратил себя почти полностью. Я не имею в виду имущество. Как видите, он не скупился и отдал им все. На меня его не хватило; я получился иным, чем мои братья. Сызмальства хилый, то и дело хворавший. Болезненный ребенок. Большие глаза, слабый голос. Даже в горячке или нервном возбуждении, когда я ощущал, так отчетливо ощущал, как мой внутренний голос набирает силу, подобно речке во время ливня, речь моя звучала очень слабо, неестественно слабо по сравнению с мощью моих чувств! Не удивляйтесь, что для меня так важен этот звуковой эффект. Он, собственно, наиболее явственно выражал суть всей моей жизни. Ибо, клянусь, он уже с самого раннего возраста представлял собой нечто исключительное и бесконечно далекое от всего, чем живут сначала дети, потом подростки и, наконец, юноши. Я не был более сложным, особо избранным или лучшим — о, я вовсе не заносчив! Я просто был другим. Я вел ту же жизнь, что мои братья; возможно, она была лишь несколько более утонченной, торопливой, лихорадочной, но главное — гораздо более осмысленной. Они жили наружной жизнью, не умея прочувствовать ее, я же жил внутри себя. Трудно представить биографию проще, чем моя. Начальная школа в селе, средняя школа в уездном городке, торговая академия в Праге. Прага! Боже мой, мне тогда было шестнадцать. Сколько приключений и так называемых сладких авантюр она сулила. Однако, гордый и погруженный в себя, я все их отвергал. Насколько более изысканные и пьянящие наслаждения рисовались мне в мечтах еще дома, в деревне. Я был, что называется, примерным учеником и закончил школу с отличием. Я никогда не лицемерил. Все мои высказывания и поступки были поистине хорошими и искренне благородными. Мне нечего было скрывать. И все же во мне таились и поражающий воображение хаос, и чудовищные желания, и готовность совершить страшные злодеяния, и мысли о славе Герострата. Я задыхался от всего этого и тем не менее любил свои неясные и невинные грехи. Я был не раздвоенной, но лишь двоякой натурой.
Сколько раз я участливо беседовал со старой доброй тетушкой о ее хозяйственных нуждах и хлопотах, а в душе у меня тем временем бушевал яркий, сверкающий огнями карнавал! Сколько раз я возился с детьми, целиком поглощенный игрой, и при этом мысленно рисовал живописные сцены из буколики! И как часто я представлял себя знаменитым политиком, бунтарем, безоглядным анархо-индивидуалистом, который, воодушевленный событиями общественной жизни, встает — убежденный и убедительный — во главе опасной демонстрации! Я плохой оратор. Может быть, после всего, что я вам открыл, вы скажете про себя: книжный червь, благородная душа, слабовольный мечтатель, к тому же с дурными извращенными наклонностями, которые он инстинктивно и лукаво скрывает. И будете неправы. Я не лукавил ни в своих поступках, ни в мечтах. Я наслаждался усердием, ценил старание, полностью разделял строгие моральные принципы, по-детски наивно любил природу и оживал душой на ее лоне, но при этом восхищался вплоть до обожания людьми экстравагантными и расточительными и с завистью мечтал о бродячей, беспорядочной жизни des fahrenden Volkes[7]; впрочем, с эксцентричностью и дендизмом я с легкостью расправлялся при помощи философии ex cathedra[8]. Так протекали годы моего образования. Хороший ученик, хороший сын, брат и друг был в близких отношениях с авантюристами, преступниками, распутниками, богатыми и бедными ворами, о которых я слышал или которых выдумал. Я называл это «бродить по колено в грязи и оставаться чистым». Я полагал, что мне есть чем гордиться. Да, я много возомнил о себе. В конце концов, проучившись еще какое-то время в Лейпциге и Дрездене, я перебрался в Берлин. Там я получил свою первую работу. Рядовая карьера. Однако вы, Людвик, вряд ли поймете, какую опасность представлял для меня Берлин.
Я нетерпеливо перебил его:
— Простите, но вот уже второй раз вы обращаетесь ко мне просто по имени. Надеюсь, это ненамеренно. Такое обращение мне решительно не нравится.
Он посмотрел на меня грустно и с иронией:
— Я думал, что время уже пришло… Но как вам будет угодно. Вы пока еще не понимаете. Может быть, все же поймете. Позже.
Итак, Берлин. Я тогда тоже долго не понимал. Теперь понял, так как живу в Париже. Знаете ли, об этом городе идет самая разная слава. Чаще всего его называют безнравственным. В действительности, однако, здесь все четко разделено. Здесь нет смешения — вот что главное. Здесь я могу разложить собственную жизнь, между тем как в Берлине наступил момент, когда она превратилась в сплошной запутанный клубок. Ибо Берлин — это город наихудших переплетений. Повсюду, в любом обществе, вы однажды замечаете (если вам присуща малейшая наблюдательность), что добропорядочность, честность и размеренность стоят плечом к плечу с декадансом, который заключает в себе порок, развращенность и разгул страстей. Поскольку же декаданс вынужден сосуществовать с самым закоснелым пуританством, то он, находясь под его властью, трусливо прячется и чудовищно жиреет от нехватки свежей жизни. Круг моего общения составляли банковские служащие, богачи, торговцы с их женами и дочерьми, молодые, пожилые, старые, а также горстка литераторов и художников. Все было корректно, comme il faut[9], разговоры велись исключительно поверхностные и любезные, но время от времени из чьих-нибудь глаз вылетала предательская молния, устремляясь, казалось, куда-то в пустоту. Однако тот, кто умеет наблюдать — а я, поверьте, умею, — с легкостью находил взгляд, который жадно впитывал в себя этот знак порочной страсти. Я не знаю, как жили эти люди, но знаю, что пришлось вытерпеть мне. Я быстро затосковал от сознания того, что впустую растрачиваю дни посреди этой тщательно регламентированной жизни, по-настоящему живя лишь в мечтах и внутренне корчась. Что толку говорить себе: я брожу по колено в грязи, но остаюсь чистым. Это трусость. Жизнь шла своим чередом, годы уходили. Я знал, что чем ближе к низовьям, тем менее вероятны водовороты и водопады. Мне же их так хотелось. Я знал, что пока не станет реальностью самое глубинное из моих желаний, я не смогу удостовериться, кем же в действительности являюсь — джентльменом или негодяем. А я, сударь, хотел быть джентльменом. Пусть я останусь двоякой натурой, если обе мои жизни нельзя соединить вместе. Но пусть хотя бы ради моего удовольствия или даже моего спасения бок о бок с добропорядочным буржуа, которым я до сих пор казался, явственно возникнет тот самый безудержный фокусник, каким я был в еще большей степени. Жить, Людвик, жить — столькими жизнями, сколькими удастся, но при этом прожить их все, и с каждой совладать. И мне казалось, что в моей груди заключено столько их, спорящих и теснящих друг друга! Выпустить их на волю — выпустить и честно сразиться с каждой!
Он устремил на меня взгляд, исполненный страстности, и это была не застывшая, бездеятельная страстность, но страстность бурная, кипучая, внушенная страданием настолько глубоко прочувствованным и неземным, что этот взгляд смутил меня. По-видимому, мой собеседник заметил это. Ибо вдруг умолк и прикрыл глаза рукой. Как ни странно, этот жест пробудил во мне равнодушие к его рассказу.
Потом он продолжал:
— В том отделении банка, где я работал, была одна стенографистка. Звали ее Хелена. Наши деловые отношения вскоре переросли в отношения более личные; я часто провожал ее домой, ибо нам было по пути. В конторе ей нравилось производить впечатление дамы с художественным вкусом и склонностью к искусству, выйдя же на улицу, она вживалась в образ дамы света. В обоих этих ипостасях она вела себя весьма ловко; до некоторой степени она представляла собой то и другое одновременно: по вечерам она иногда пела в хоре театра оперетты, а иногда исполняла небольшие сольные партии в его спектаклях. Я был молод и по своим инстинктам оставался, видимо, настоящим крестьянином. Однако Хелена с помощью своих инстинктов — проворных и испорченных — распознала в моих речах юношескую тоску, а так как я ей понравился, то она захотела, чтобы мои мечты сбылись. Она вовлекла меня в свой круг. Театральное закулисье, хмельное застолье после спектаклей и кутежи в ночных ресторанах. Вы, конечно же, можете вообразить себе людей, с какими я тогда сталкивался. Среди них встречаются представители почти всех профессий с самыми разнообразными пристрастиями, прихотями и отклонениями. Сейчас мне придется рассказать вам кое-что такое, что прозвучит, как отвратительная исповедь. Признаюсь, однако, что мне гораздо легче говорить об этом, чем обо всем прочем, ибо в данной области я давно уже обрел уверенность в себе. Я, видите ли, бываю подвержен сильнейшим страстям, но я не имею в виду муки любви — если говорить о любви с большой буквы. Мне требуется аффект — обязательно, но будет ли его предметом женщина или мужчина, мне безразлично. Или лучше сказать — учитывая мой ярко выраженный нарциссизм, — мне одинаково приятна благосклонность мужская и женская. И любовь, и дружбу я воспринимаю как одинаково чистые, одинаково благородные чувства. Что ощущают при этом другие, меня не интересует. Я черпаю, сколько могу, из своего чувства. И спокойствие моей совести подсказывает мне, что я могу и имею право так поступать…