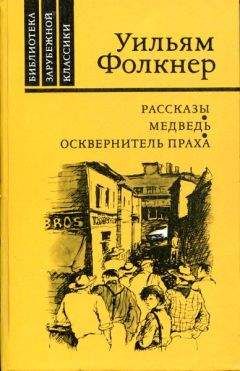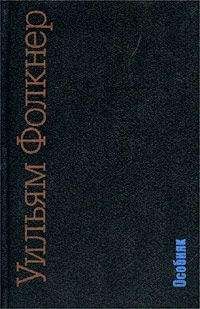Уильям Фолкнер - Свет в августе; Особняк
Три человеческие судьбы — Флема Сноупса, Минка Сноупса и Линды — в конце романа сходятся в одной точке. Линда узнает про Минка и добивается его досрочного освобождения из тюрьмы, прекрасно понимая, что первое, что сделает Минк, оказавшись на свободе, это попытается убить Флема, человека, считающегося ее отцом. А когда это действительно происходит, она хладнокровно помогает убийце скрыться. И Гэвин Стивенс, прокурор округа, страж правосудия и поборник законности, понимает, что Линда, по существу, является соучастницей убийства, но он также сознает, что жизнь сложнее законов, придуманных людьми, и есть справедливость, которая выше закона.
Последние страницы романа пронизаны щемящим чувством сострадания к людям, которые являются жертвами жизненных обстоятельств и, в свою очередь, причиняют страдания другим. Рэтлиф подводит черту под всей этой историей, говоря о людях: «Несчастные сукины сыны», а Гэвин Стивенс вторит ему: «Несчастные сукины дети, сколько они причиняют людям горя и тоски, сколько от них видят и тоски и горя».
Эта боль за человечество, за страдания и беды, выпадающие на долю людей, за несправедливость и зло, обрушивающиеся на них, составляют главный пафос всего творчества Фолкнера. Не случайно Фолкнер в многочисленных интервью и выступлениях перед студенческими аудиториями среди своих любимых писателей, которых он регулярно перечитывал, обычно называл таких великих гуманистов, как Достоевский, Лев Толстой, Бальзак, Диккенс. Особенно примечателен его интерес к Достоевскому. Выступая в 1907 году в Виргинском университете, Фолкнер говорил о Достоевском: «Он не только очень во многом повлиял на меня, но я испытываю наслаждение, перечитывая его, и я это делаю ежегодно. По своему мастерству, по глубине проникновения во внутренний мир человека, по силе сострадания он был одним из тех, с кем каждый писатель хотел бы сравняться».
В этом высказывании надо выделить слова о «силе сострадания», ибо в них для Фолкнера, как и для Достоевского, основа нравственной позиции писателя. В своей речи при вручении ему Нобелевской премии в 1950 году Фолкнер призывал писателей «изгнать из своей мастерской все, кроме правды сердца, кроме старых, вечных истин — чести и любви, гордости и жалости, сострадания и самопожертвования, без которых любое произведение — однодневка, обреченная на скорую гибель».
Фолкнера часто обвиняли в том, что он в своих произведениях выворачивает наружу, выставляет напоказ самые низменные, самые темные стороны человеческой натуры. И в этом усматривали его связь с модернизмом. Но модернизм в сути своей антигуманен, писатели-модернисты обычно стремятся принизить человека, показать его ничтожество, а Фолкнер никогда не изображал жестокость ради жестокости, никогда не смаковал низменное в человеке.
Характерно, что сам Фолкнер деликатно, но твердо отвергал свою причастность к модернизму, в частности, к таким его пророкам, как Джойс и Пруст. Выступая в японском университете Нагано, он говорил, ссылаясь на беседу, которая была накануне, когда он вспоминал Толстого, Достоевского, Бальзака, Диккенса: «Имена, которые я вчера упоминал, это имена тех, кто, на мой взгляд, повлияли на меня. Когда я читал Джойса и Пруста, возможно, что моя карьера как писателя уже определилась и поэтому они не могли повлиять на меня, разве только в смысле профессиональных приемов».
Что же касается изображения жестокости, то Фолкнер говорил в одном из своих интервью: «Когда я в своих произведениях пишу о вырождении, о насилии, то я никогда не делаю этого ради вырождения и насилия. Я использую их как инструмент, с помощью которого я стараюсь показать, с чем человек должен сражаться, и особые обстоятельства, при которых он задавлен вырождением и насилием, когда он ненавидит насилие, в котором участвует, когда он сопротивляется насилию, когда он верит во что-то, вроде чести, гордости, сострадания, даже в вырождении. Писать о вырождении и насилии только ради вырождения и насилия — это утрата честности».
Фолкнер видел задачу писателя в том, чтобы возвысить человека, помочь ему стать чище и лучше. «Если писатель призван что-то совершить, — говорил он, — так это сделать мир чуть лучше, чем он его застал, сделать то, что в его силах, доступным ему способом, чтобы не было такого зла, как война, несправедливость, — вот в чем его работа. И делать это нужно, не описывая всякие приятные вещи, — писатель должен показать человеку его низменные черты, зло, которое человек способен совершить, в то же время ненавидя себя за это зло, которое человек должен преодолеть, вынести и выдержать; чтобы человек всегда верил в то, что он может быть лучше, чем он, вероятно, будет».
Вот из этого убеждения в высоком призвании писателя и произрастает жестокость таланта Фолкнера. Эта жестокость сродни жестокости хирурга, она гуманна по самой своей природе. Недаром Фолкнер, отвечая на вопрос студентов японского университета Нагано, к какой литературной школе он себя причисляет, сказал: «Единственная школа, к которой я принадлежу, к которой хочу принадлежать, — это школа гуманистов».
Задачи, которые ставил перед собой Фолкнер, определили и особенности его творческого метода. Реализм Фолкнера отнюдь не реализм бытописательский, не фиксация фактов и событий. Это реализм, поднимающийся до высоких социальных и нравственных обобщений, порой до символов. Сам Фолкнер характеризовал свою творческую позицию следующими словами: «Ответственность писателя в том, чтобы рассказывать правду — рассказывать ее так, чтобы люди читали ее, помнили о ней, потому что она рассказана незабываемым образом. Просто сообщить факт, просто рассказать о несправедливости иногда недостаточно. Это не трогает людей. Писатель должен добавить к этому свой талант, он должен взять эту правду и поджечь под ней пламя, так, чтобы люди запомнили ее».
Вот в чем видел Фолкнер задачу и ответственность писателя — «взять эту правду и поджечь под ней пламя». В этом ключ его художественных поисков, того, что он хотел сделать в литературе.
Гнев и сострадание Фолкнера, его гуманизм, его понимание высокого долга писателя нашли свое прекрасное выражение в речи при вручении ему Нобелевской премии:
«Я уверен, что человек не только вынесет, он восторжествует. Он бессмертен не только потому, что он один среди живых существ обладает неистребимым голосом, а потому, что у него есть душа, способная на сострадание, самопожертвование и стойкость. Обязанность поэта, писателя писать об этом. Это его привилегия помочь человеку вынести все, возвышая его сердце, напоминая ему о доблести, о чести, о надежде, гордости, сострадании, жалости, самопожертвовании. Голос поэта не должен только описывать человека, он должен быть одной из опор, помогающих человеку выдержать и восторжествовать».
Б. ГРИБАНОВ
СВЕТ В АВГУСТЕ
Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: «Я пришла из Алабамы; путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий». Думает меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала. И от Доуновой лесопилки, так далеко не бывала с двенадцати лет.
Она и на Доуновой лесопилке не бывала, пока не умерли отец с матерью, хотя раз по шесть, по восемь в году, по субботам, ездила в город — на повозке, в платье, выписанном по почте, босые ноги поставив на дно, туфли, завернутые в бумагу, положив рядом с собой на сиденье. В туфли обувалась перед самым городом. А когда подросла, просила отца остановить повозку на окраине, слезала и шла пешком. Отцу не говорила, почему хочет идти, а не ехать. Он думал — потому что улицы гладкие, тротуары. А Лина думала, что, если она идет пешком, люди принимают ее за городскую.
Отец с матерью умерли, когда ей было двенадцать, — в одно лето, в рубленом доме из трех комнат и передней, без сеток на окнах, в комнате, где вокруг керосиновой лампы вилась мошкара, а пол был вылощен босыми пятками, как старое серебро. Она была младшей из детей, оставшихся в живых. Мать умерла первой. Она сказала: «За папой ухаживай». Лина ухаживала. Однажды отец сказал: «Поедешь на Доунову лесопилку с Мак-Кинли. Собирайся, чтобы к его приезду была готова». И умер. Мак-Кинли, ее брат, приехал на повозке. Отца похоронили днем в роще за деревенской церковью и поставили сосновое надгробье. Утром она уехала навсегда — хотя, может быть, и не понимала этого — на повозке, с Мак-Кинли, на Доунову лесопилку. Повозка была чужая, брат обещал вернуть ее к ночи.
Брат работал на лесопилке. Все мужчины в деревне работали на лесопилке или при ней. Резали сосну. Резали уже семь лет и еще через семь должны были извести весь окрестный лес. Тогда часть оборудования и большинство людей, работавших на нем и существовавших благодаря ему и для него, погрузятся в товарные вагоны и уедут. Но часть оборудования останется, — потому что новое всегда можно купить в рассрочку, — и уныло застывшие колеса, поражая взор, будут торчать над курганами битого кирпича и жестким бурьяном, и выпотрошенные котлы упрямо, смущенно, озадаченно будут топорщить свои ржавые бездымные трубы над пнистой панорамой немой и мирной пустоши, непаханой, небороненной, в красных язвах буераков, прорытых тихими мокрыми дождями осени и бешеными косохлестами весенних равноденствий. И тогда, иссосанные глистами самозваные наследники, растаскивая дома и сжигая их в плитах и очагах, не вспомнят самого названия деревни, которая и в лучшие дни не значилась в анналах почтового ведомства.