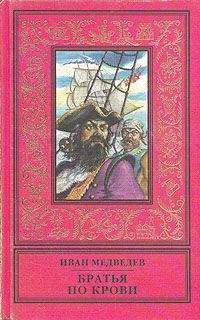Эдмон Гонкур - Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен
Однако Гонкур видел значительность своей книги не в том, в чем она состояла на самом деле. Отнюдь не элементы декадентства, а та жизненная правда, которая в ней заключается, делают ее интересной в наши дни. Прежде всего это мысль о том, что истинное искусство должно опираться на действительность: актриса Фостен, играя Федру, сумела достичь потрясающей силы в изображении страсти только тогда, когда в ней самой ярким пламенем вспыхнула любовь к лорду Эннендейлу. Эта идея, воплощенная в образе главной героини, не противоречит другой излюбленной мысли Гонкуров: о том, что слишком сильные увлечения, посторонние искусству, пагубны для художника, ибо приводят к измене главному делу его жизни. Страстная любовь побудила Фостен оставить сцену, но, как ни убеждает она себя в правильности сделанного выбора, она не может найти удовлетворения в чувстве лорда Эннендейла и в роскоши, которой он окружил ее.
Как и в прежних произведениях Гонкуров, в «Актрисе Фостен» правдиво описана театральная среда, кулисы, быт актрис, состоящих на содержании у богачей. Но главное, чем привлекает роман, — это проникновение во внутреннюю творческую жизнь Фостен. Великая актриса XIX века Рашель, непревзойденная исполнительница женских ролей классического репертуара, послужила прототипом для героини гонкуровского романа. Гонкур тонко прослеживает, как творческое начало наполняет душу Фостен беспокойством и романтическим томлением, поднимает ее над уровнем артистической богемы, к которой она принадлежит, и возносит ее, в период работы над ролью Федры, на вершины духа. Кристаллизация сценического образа предстает как плод длительного лихорадочного состояния, почти маниакальной сосредоточенности, непрерывных исканий, подчиняющих себе все существо актрисы. Возврат Фостен к лицедейству в момент агонии ее возлюбленного должен был, по замыслу Гонкура, выражать невозможность для истинного художника добровольно отказаться от своего призвания. Страдания умирающего, ее собственное жестокое страдание вдруг предстают перед Фостен лишь как жизненный материал, в котором она пристальным взглядом актрисы выделяет то, из чего можно будет потом вылепить художественный образ. Вся книга, несмотря на новый для Гонкуров несколько декадентский привкус, в сущности, утверждает их старые, в общем, благородные мысли о величии искусства, о тесной связи его с жизнью, об ответственности перед ним художника. Апофеоз искусства, создающего высокие духовные ценности, — вот чем значителен роман «Актриса Фостен».
После неудачной «Шери» Гонкур романов больше не пишет. Как романист он утратил почву под ногами. К нему льнут молодые декаденты, называют его учителем, противопоставляют его Золя. Но для Гонкура их устремления все же чужды, и он не раз высказывается против них в «Дневнике»: они для него слишком иррационалистичны, слишком «темны», их агрессивный антиреализм для него неприемлем. Но и к натуралистическому роману старого типа Гонкур тоже не может вернуться.
Он снова берется за изучение XVIII века, занимается японским искусством, переиздает ранее написанные им вместе с братом произведения, инсценирует их сам или руководит их инсценировкой для театра.
С 1887 года начинается публикация «Дневника» Гонкуров, и до 1896 года (в этом году Эдмон Гонкур умер) появляется девять томов. В дополненном по рукописям издании 1956 года он составляет двадцать два тома. «Дневник», где документальная точность была уместнее, чем в романе, где отразилась литературная жизнь Франции на протяжении почти полувека, оживил потускневшую известность Гонкуров и даже затмил в читательском восприятии собственно художественное творчество братьев.
Гонкуры занимают промежуточное положение в литературном процессе второй половины XIX века. От них, несомненно, тянутся некоторые нити к декадансу. Но в основном они остаются все же детьми боготворимого ими Бальзака. Они говорят подлинную — пусть и не очень глубокую — правду о своем времени и его людях. При всем их пристрастии к индивидуальному и конкретному, произведения их отнюдь не чужды типичности и свидетельствуют против буржуазного общественного устройства. Их собственные художественные открытия внесли в литературу нечто новое, чего в ней не было раньше, обогатили ее тонкой словесной живописью, изображением подвижных и изменчивых состояний человеческой души. Этим братья Гонкуры заслужили право на внимание к себе читателей нашего времени.
В. Шор
Жермини Ласерте
Перевод Э.Линецкая
Предисловие
Мы должны попросить прощения у читателей за эту книгу и заранее предупредить их о том, что они в ней найдут.
Читатели любят лживые романы, — этот роман правдив.
Они любят книги, притязающие на великосветскость, — эта книга пришла с улицы.
Они любят игривые безделки, воспоминания проституток, постельные исповеди, пакостную эротику, сплетню, которая задирает юбки в витринах книжных магазинов, — то, что они прочтут здесь, сурово и чисто. Напрасно они будут искать декольтированную фотографию Наслаждения: мы им предлагаем клинический анализ Любви.
Читатели также любят книги утешительные и болеутоляющие, приключения с хорошим концом, вымыслы, способствующие хорошему пищеварению и душевному равновесию, — эта книга, печальная и мучительная, нарушит их привычки и повредит здоровью.
Для чего же мы ее написали? Неужели только для того, чтобы покоробить читателей и оскорбить их вкусы?
Нет.
Живя в XIX веке, в пору всеобщего избирательного права, либерализма и демократии, мы спросили себя: не могут ли те, кого называют «низшими классами», притязать на роман? Другими словами, должен ли народ, этот человеческий мир, попранный другим человеческим миром, оставаться под литературным запретом, презираемый писателями, обходившими до сего времени молчанием его душу и сердце, хотя, быть может, у него все же есть и душа и сердце? Мы спросили себя, действительно ли в век равенства по-прежнему существуют для писателя и читателей недостойные внимания классы, слишком низменные несчастья, слишком грубые драмы, чересчур жестокие и потому неблагородные катастрофы? Нам захотелось выяснить, правда ли, что форма, излюбленная в ныне забытой литературе и исчезнувшем обществе, а именно — Трагедия, окончательно погибла и что в стране, не имеющей каст и узаконенной аристократии, несчастья людей маленьких и бедных не будут взывать к уму, к чувству, к жалости так же громко, как несчастья людей влиятельных и богатых? Короче говоря, нам захотелось проверить, могут ли слезы, проливаемые в низах общества, встретить такое же сочувствие, как слезы, проливаемые в верхах?
Эти мысли побудили нас написать в 1861 году смиренную историю «Сестры Филомены». Эти же мысли дают смелость опубликовать сейчас «Жермини Ласерте».
А теперь пусть чернят нашу книгу; это уже не имеет значения. В эпоху, когда роман расширяется и углубляется; когда он постепенно становится подлинным изображением жизни, вдумчивым, горячим и страстным литературным исследованием, равно как и социальной анкетой; когда, с помощью анализа и психологических изысканий, он превращается в историю современных нравов; когда решает те же задачи и берет на себя те же обязательства, что и наука, — в такую эпоху он может требовать тех же льгот и вольностей, какие есть у нее. Пусть он стремится к искусству и правде; пусть рисует горести, которые нарушат покой тех парижан, что оказались баловнями судьбы; пусть показывает светским людям то, на что имеют мужество смотреть дамы-благотворительницы, на что некогда заставляли смотреть своих детей в странноприимных домах королевы: живое, трепещущее человеческое страдание, наставляющее милосердию; пусть причастится религии, которую прошлый век называл величавым и всеобъемлющим именем — Человечество, — большего от него и не требуется, ибо в этом — его право на существование.
Париж, октябрь 1864 г.
I
— Вы поправитесь, барышня, теперь вы непременно поправитесь! — захлопнув дверь за врачом, радостно воскликнула служанка и бросилась к постели, где лежала ее госпожа. Вне себя от счастья, она начала осыпать градом поцелуев одеяло, под которым жалкое, исхудалое тело старухи, такое маленькое в огромной кровати, казалось телом ребенка.
Старуха, сжав ладонями голову служанки, молча притянула ее к груди, потом вздохнула и прошептала:
— Что ж… Видно, придется еще пожить…
В окно маленькой спальни, где происходила эта сцена, был виден клочок неба, на котором рисовались силуэты трех черных железных труб, зигзаги крыш и вдали, в просвете между двумя домами, очертания обнаженной ветки невидимого дерева.
На каминной доске стояли в четырехугольном футляре красного дерева часы с большим циферблатом, с крупными цифрами и тяжелыми гирями. Рядом с ними поблескивали под стеклянным колпаком два подсвечника, — на каждом из них три посеребренных лебедя обвивали длинными шеями позолоченный колчан. Возле камина протягивало свои праздные теперь подлокотники вольтеровское кресло, покрытое тканью, вышитой по канве крестиком, — так обычно вышивают лишь маленькие девочки и старые женщины. На стенах висели два небольших пейзажа в стиле Бертена[2], нарисованные акварелью цветы — под ними была поставлена красными чернилами дата — и несколько миниатюр. Ампирный комод красного дерева украшала черная бронзовая статуэтка, изображавшая бегущее Время с протянутой вперед косой; статуэтка служила подставкой маленьким часам с бриллиантовыми цифрами, с голубым эмалевым циферблатом и ободком из жемчужин. По паркету протянулся ковер с черно-зеленым узором в виде языков пламени. Старинные ситцевые занавески на окне и кровати были шоколадного цвета, с красными разводами. Над изголовьем больной склонялся портрет, который, казалось, буравил ее взглядом. Жесткое лицо мужчины на этом портрете было оттенено высоким воротником зеленого атласного костюма и мягким муслиновым платком, свободно и небрежно повязанным вокруг головы по моде первых лет Революции. Мужчина, нарисованный на портрете, и старуха, лежавшая в постели, были очень похожи друг на друга: те же черные, густые, властно нахмуренные брови, тот же орлиный нос, те же четкие линии, выражавшие волю, решимость, энергию. Лицо портрета отражалось в ее лице, как лицо отца отражается в лице дочери. Но у нее жесткость черт смягчалась лучом суровой доброты, пламенем беспредельной верности долгу и по-мужски сдержанного человеколюбия.