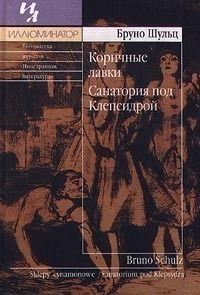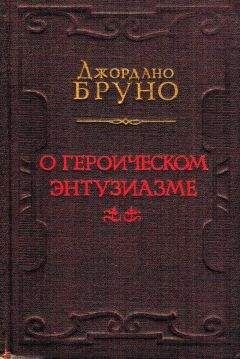Бруно Шульц - Трактат о манекенах
Что-то праздничное влилось в нашу жизнь, какой-то энтузиазм и пылкость, какая-то значительность и торжественность вошла в наши жесты, расширила нам груди космическим дыханием. Земной шар по ночам гудел торжественным гулом солидарного восторга многотысячных толп. Настали черные и огромные ночи. Звездные туманности бесчисленными роями сгущались вокруг земли. В черных межпланетных просторах эти рои стояли, по-разному размещенные, пересыпая метеорную пыль из бездны в бездну. Затерянные в бесконечных пространствах, мы почти утратили под ногами земной шар и, сбитые с толку, спутав направления, висели, как антиподы, вниз головой над перевернувшимся зенитом, ведя послюненным пальцем через целые световые годы от звезды к звезде. Так мы странствовали по бесконечным ступеням ночи — эмигранты с покинутого земного шара, обшаривающие бессчетное кишение звезд. Открылись последние рогатки, и велосипедисты вкатились в черный звездный простор, застыли, встав на дыбы на своих велосипедах, в недвижном полете в межпланетной пустоте, раскрывающейся все новыми и новыми созвездиями. Летя по этому тупиковому пути, они намечали дороги трассы бессонной космографии, а по сути, черные, как сажа, словно засунули голову в печной дымоход, пребывали в планетарной летаргии, последней мете и цели всех этих слепых полетов.
После короткого, безалаберного, наполовину проспанного дня ночь открывалась как огромная оживленная отчизна. Толпы выходили на улицы, высыпали на площади, голова к голове, словно кто-то выбил крышки из бочонков с черной икрой, покатившейся потоками поблескивающей дроби, плывущей точно реки под черной, как смола, ночью, наполненной шумом звезд. Лестницы подламывались под тяжестью тысячных толп, во всех окнах появлялись отчаянные фигурки, люди-спички на дрыгающих лучинках в лунатическом раже сходили с подоконников, творили, как муравьи, живые цепи, выстраивали, стоя друг у друга на плечах, движущиеся многоярусные пирамиды и колонны, которые сплывали из окон на платформы площадей, освещенные огнями смоляных бочек.
Прошу простить меня, если, описывая эти шумные многолюдные сцены, я впадаю в преувеличение, невольно беря за образец некоторые старинные гравюры в великой книге бедствий и катастроф человеческого рода. Ведь все они стремятся к единому праобразу, и гиперболическая крайность, гигантский пафос этих сцен свидетельствует, что здесь мы выбили дно извечной бочки воспоминаний, некоей прабочки мифа и вломились в дочеловеческую ночь, наполненную клокочущей стихией, булькающей амнезией, и уже не способны сдержать поднявшееся наводнение. Ах, эти рыбные и ройные ночи, кишащие звездами, сверкающие их чешуей, ах, эти косяки крохотных ртов, что неустанно втягивают мелкими голодными глоточками все невыпитые струи тех черных проливных ночей! В какие гибельные вентери, в какие скорбные мрежи тянулись эти темные тысячерично размножившиеся поколения?
О небеса тех дней, все в световых сигналах и метеорах, исписанные расчетами астрономов, тысячекратно скалькированные, покрытые цифрами, помеченные водяными знаками алгебры. С лицами, поголубевшими от великолепия ночей, мы в сидерическом ослеплении блуждали по небесам, пульсирующим взрывами далеких солнц, — людское скопление, широко растекшееся по мелям млечного пути, что разлился на все небо, человеческие потоки, над которыми возвышались велосипедисты на своих паучьих аппаратах. О, звездная арена ночи, разрисованная до самых дальних пределов эвольвентами, спиралями, зигзагами и петлями этих эластичных проездок, о, циклоиды и эпициклоиды, вдохновенно исполненные по диагоналям небосвода, теряющие проволочные спицы, безразлично лишающиеся блестящих ободов и докатывающиеся уже нагие, уже только на чистой велосипедной идее до сияющего финиша! Именно этими днями датируется новое, тринадцатое созвездие, принятое навечно в состав Зодиака и с тех пор горящие на небе наших ночей — созвездие Велосипедиста.
В те ночи настежь распахнутые квартиры зияли пустотой в свете отчаянно коптящих ламп. Оконные занавески, выброшенные далеко в ночь, колыхались, и анфилады комнат так и стояли во всеобъемлющем постоянном сквозняке, который пронизывал их насквозь тугой, несмолкающей, пронзительной тревогой. То подавал сигнал тревоги дядя Эдвард. Да-да, он наконец потерял терпение, разорвал все узы, растоптал категорический императив, вырвался из жестких правил высокой своей нравственности и бил тревогу. С помощью длинной палки его тут же заткнули, попытались кухонными тряпками остановить внезапный взрыв, но даже забитый кляпом он бушевал, дребезжал исступленно, неистово; ему уже было все равно, и жизнь уходила из него этим дребезжанием; у всех на глазах он истекал кровью в гибельном ожесточении, и тут уж ничем было не помочь.
Порой кто-нибудь на минуту вбегал в пустые комнаты, просквоженные этой яростной тревогой, проделывал на цыпочках несколько шагов среди ламп с высокими язычками пламени и в неуверенности замирал, словно ища чего-то. Зеркала безмолвно вбирали его в свою прозрачную глубь, молча делили между собой. Сквозь светлые и пустые комнаты несся неистовый вопль дяди Эдварда, и одинокий дезертир звезд, полный угрызений совести, словно он пришел сюда совершить нечто постыдное, украдкой отступал из квартиры, оглушенный тревогой, и направлялся к двери, провожаемый чуткими зеркалами, которые пропускали его сквозь свой поблескивающий строй, а в их глубине тем временем разбегался на цыпочках в разные стороны рой испуганных двойников, прижимающих палец к губам.
Вновь перед нами открывалось небо со своими бесконечными просторами, усеянными звездной пылью. На нем из ночи в ночь и с ранних сумерек появлялся гибельный болид, косо наклоненный, повисший на вершине своей параболы, нацеленный на землю, безрезультатно заглатывающий по стольку-то тысяч миль в секунду. Все взоры были устремлены к нему, покуда он, металлически светящийся, округлый, с математической точностью исполнял свой каждодневный урок. И как же трудно было поверить, что эта крохотная козявка, невинно сияющая среди бесчисленных ров звезд, и есть тот огненный перст Валтасара, что выписывает на таблице неба предвещение гибели нашего земного шара. Однако каждый ребенок знал наизусть роковое уравнение, оправленное в трубку двойного интеграла, уравнение, из которого при подстановке в него граничных условий следовала наша неуклонная погибель. Что могло спасти нас?
Когда чернь разбежалась по бескрайней ночи, теряясь среди звездного света и феноменов, отец тихонько остался дома. Он единственный знал тайный выход из этой ловушки, тайные кулисы космологии и незаметно улыбался. Заткнутый тряпками дядя Эдвард отчаянно вызванивал тревогу, а отец тихо засунул голову в душник. Было там глухо и черно, хоть глаз выколи. Веяло теплым воздухом, сажей, укромной тишиной и спокойным пристанищем. Отец уселся поудобнее, с блаженством прикрыл глаза. В этот черный скафандр дома, вынырнувший над крышей в звездную ночь, падал слабый лучик звезды; он зачинался завязью в черной реторте трубы и, преломленный, словно в линзах объектива, почковался светом в печи. Отец осторожно подкручивал винт микрометра, и вот медленно в поле зрения объектива вошло это роковое светлое, как луна, творение, поднесенное окуляром на расстояние вытянутой руки, пластичное и высвеченное, как алебастровый рельеф, в безмолвной черноте межпланетной пустоты. Было оно чуть-чуть щербатое, как бы изъеденное оспой, — родной брат луны, потерявшийся двойник, который после тысячелетних странствий возвращается к отчей планете. Отец перемещал его перед вытаращенным, напряженно всматривающимся глазом точно круг швейцарского сыра со множеством дырок, резко освещенный бледно-желтый круг, покрытый белой, словно проказной, коростой. Держа руку на винте микрометра, отец глазом, ярко освещенным светом окуляра, холодно исследовал известковый шар, видел на поверхности сложный рисунок болезни, которая точила его изнутри, извилистые ходы, что проделывал короед-типограф в сероватой изъеденной поверхности. Отец вздрогнул, заметив свою ошибку: нет, то вовсе не был швейцарский сыр, то явно был человеческий мозг, анатомический препарат мозга во всей сложности его строения. Отец четко видел границы долей, извилины серого вещества. Он напряг зрение и даже различил еле видимые буковки надписей, расходящихся в разных направлениях на запутанной карте полушарий. Похоже, мозг был захлороформирован, усыплен и во сне счастливо улыбался. Добираясь до ядра улыбки, отец сквозь сложный поверхностный рисунок увидел сущность этого творения и тоже молча улыбнулся. Чего только не откроет нам верная печная труба собственного дома, черная, как подмышка негра! Сквозь извилины серого вещества, сквозь мелкую зернистость отеков отец увидел четко просвечивающий контур эмбриона, характерно скорчившегося, прижимающего кулачки к лицу, спящего блаженным сном вниз головой в светлой жидкости амниона. В этой позиции отец и покинул его. Испытывая облегчение, он встал и захлопнул дверцу душника.