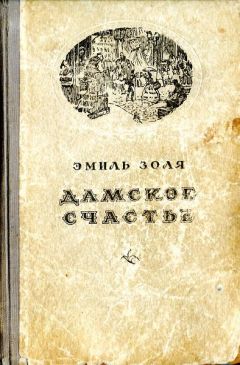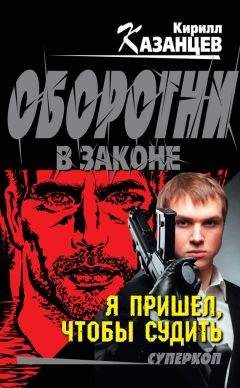Эмиль Золя - Дамское счастье
— Знаете, у катушечников теперь свой собственный клуб, — принялся вдруг рассказывать Миньо. — Да, «Клуб-Катушка»… Собрания происходят у винного торговца на улице Сент-Оноре: он сдает им по субботам один из залов.
Миньо говорил о продавцах из отдела приклада. Весь стол развеселился. Покончив с одним куском и приступая к другому, каждый приглушенным голосом вставлял словечко или прибавлял деталь; одни только заядлые читатели газет хранили молчание, ничего не слыша, уткнувшись носом в газету. Все сходились на том, что торговые служащие с каждым годом становятся все образованнее. Теперь около половины из них говорят по-немецки или по-английски. Настоящий шик уже не в том, чтобы поднять скандал у Бюлье или шляться по кафешантанам и освистывать уродливых певиц. Нет, теперь собираются человек по двадцать и организуют кружки.
— Что, и у них есть пианино, как у полотнянщиков? — спросил Льенар.
— Есть ли в «Клубе-Катушке» пианино? Еще бы! — воскликнул Миньо. — Они играют, поют!.. А один, такой молоденький, по имени Баву, даже стихи читает.
Стало еще веселей; молоденького Баву подняли на смех. Однако за всеми этими насмешками таилось немалое уважение. Потом разговор зашел о новой пьесе в «Водевиле», где в качестве отрицательного типа был выведен приказчик; одни этим возмущались, других же больше волновал вопрос о том; когда их отпустят после работы, потому что они собирались провести вечер в гостях. Во всех уголках необъятного зала, среди усиливавшегося грохота посуды, шли такие же разговоры. Чтобы развеять запах пищи и теплые испарения от пятисот приборов, побывавших в употреблении, пришлось открыть окна; спущенные шторы накалились от знойных лучей августовского солнца. Горячее дыхание врывалось с улицы, желтые блики золотили потолок, обливая рыжеватым светом потные лица обедающих.
— Как не совестно запирать людей по воскресеньям в такую погоду? — повторил Фавье.
Это замечание снова вернуло присутствующих к учету товаров. Год был удачный. И опять перешли к разговору о жалованье, о прибавках — к вечно волнующему вопросу, обсуждение которого расшевелило всех. Так бывало всегда, когда на обед подавалась птица; возбуждение перешло все пределы, шум стоял невообразимый. Официанты подали артишоки с маслом, и тут все слилось в сплошной гул. Дежурному инспектору было приказано быть в этот день поснисходительнее.
— Кстати, — воскликнул Фавье, — слышали последнюю новость?
Но голос его потонул в общем крике. Миньо спрашивал:
— Кто не любит артишоков? Меняю десерт на артишоки.
Никто не ответил. Артишоки были всем по душе. Такой завтрак считался хорошим, тем Более что на сладкое должны были подать персики.
— Он, милый мой, пригласил ее обедать, — говорил Фавье соседу справа в заключение рассказа. — Как! Вы не знали?
Все слышали об этом еще утром, и судачить на эту тему уже надоело. Но тут снова посыпались шуточки — те же самые, что и утром. Делош, весь дрожа, впился взглядом в Фавье, который настойчиво повторял:
— Если он еще не заполучил ее, так заполучит… И будет не первым, можете не сомневаться!
Он тоже досмотрел на Делоша и вызывающе прибавил:
— Кто любитель костей, может насладиться ею за сто су.
Он быстро пригнул голову — Делош, поддавшись неудержимому порыву, выплеснул ему в лицо стакан вина и, запинаясь, крикнул:
— Получай, подлый враль! Еще вчера следовало тебя облить!
Начался скандал. Несколько капель вина обрызгали соседей Фавье, а ему самому лишь немного смочило волосы: Делош не рассчитал, и вино выплеснулось через стол. Присутствующие негодовали: спит он, что ли, с ней, что так за нее заступается? Вот скотина! Стоило бы дать ему хорошую взбучку, чтобы научить, как вести себя. Но голоса вдруг стихли: приближался инспектор, а впутывать в эту ссору начальство было совсем ни к чему; только Фавье сказал:
— Попади он в меня, — уж и задал бы я ему трепку.
В конце концов все кончилось шутками. Когда Делош, еще дрожа от негодования, захотел выпить, чтобы скрыть смущение, и рука его машинально потянулась к пустому стакану, все рассмеялись. Он неловко поставил стакан обратно и начал обсасывать листья уже съеденного артишока.
— Передайте Делошу воду, — спокойно сказал Миньо. — Надо же ему попить.
Хохот усилился. Все брали себе чистые тарелки из стопок, расставленных на столе на некотором расстоянии друг от друга; официанты разносили десерт — персики в корзиночках. И все покатились со смеху, когда Миньо прибавил:
— У всякого свой вкус. Делош любит персики в вине.
Тот сидел неподвижно. Опустив голову, точно глухой, он, казалось, не слышал насмешек; бедняга горько сожалел о своем поступке. Они правы: в качестве кого он ее защищает? Теперь они поверят всяким гнусностям; он готов был избить себя за то, что, желая ее оправдать, так жестоко скомпрометировал. Не везет ему! Лучше тут же подохнуть, — ведь он не может даже отдаться влечению сердца, не натворив глупостей. Слезы навертывались ему на глаза: именно он виноват, что весь магазин болтает теперь о письме хозяина! Он вспомнил, как они хохотали, отпуская сальные шуточки по поводу этого приглашения, о котором знал один только Льенар. И Делош раскаивался в том, что позволил Полине говорить в присутствии Льенара; он считал себя в ответе за допущенную нескромность.
— Зачем вы рассказали об этом? — прошептал он наконец огорченно. — Это очень нехорошо.
— Я? — отвечал Льенар. — Да я сказал только одному или двоим, под строгим секретом… Такие вещи как-то сами собою разносятся…
Когда Делош отважился все-таки выпить стакан воды, весь стол опять разразился хохотом. Завтрак близился к концу, и приказчики, развалясь на стульях в ожидании, когда зазвонит колокол, переговаривались издали друг с другом с непринужденностью сытно поевших людей. В большом центральном буфете почти не спрашивали дополнительных блюд, тем более что в этот день кофе оплачивался фирмой. Чашки дымились, и потные лица лоснились в легком паре, реявшем подобно синеватому облачку от горящей папиросы. Шторы на окнах неподвижно повисли — ни малейшее дуновение не колыхало их. Одна из них приоткрылась, и целый сноп солнечных лучей ворвался в зал, загоревшись пожаром на потолке. Стоял такой шум, что стены гудели, и колокол сначала услышали только за столами, расположенными ближе к дверям. Все поднялись, и беспорядочная толпа заполнила коридор.
Делош остался позади, чтобы избавиться от непрекращавшихся острот. Даже Божэ вышел раньше него, а Божэ имел обыкновение уходить из столовой последним, чтобы незаметно встретиться с Полиной, когда та направлялась в женскую столовую; это был условленный маневр, единственный способ на минутку увидеться в рабочее время. В этот день, как раз в ту минуту, когда они всласть целовались в уголке коридора, их увидела Дениза, которая тоже поднималась завтракать, с трудом ступая на больную ногу.
— Ах, дорогая, — залепетала Полина, залившись румянцем, — никому не скажете, правда?
Сам Божэ, широкоплечий великан, дрожал как мальчишка. Он пролепетал:
— А то они вышвырнут нас за дверь… Хотя о нашем браке и объявлено, но эти животные разве поймут, что людям хочется поцеловаться?
Взволнованная Дениза сделала вид, будто ничего не заметила. И Божэ исчез как раз в ту минуту, когда появился Делош, избравший самый длинный путь. Он решил извиниться и забормотал что-то, чего Дениза сначала не поняла. Но когда он стал упрекать Полину за то, что она заговорила при Льенаре, и та смутилась, Денизе наконец стал ясен смысл того, о чем с самого утра шептались за ее спиной, — это передавали друг другу историю с письмом. И снова дрожь пробежала по ней, как и тогда, когда она получила письмо, — у нее было такое чувство, будто все эти мужчины раздевают ее.
— Я ведь не знала, — повторяла Полина. — Да в этом и нет ничего дурного… Пусть и болтают, они все бешеные какие-то.
— Дорогая, — сказала наконец Дениза с обычной своей рассудительностью, — я нисколько на вас не сержусь… Вы рассказали сущую правду. Я действительно получила письмо, и мое дело дать на него ответ.
Делош ушел опечаленный: он решил, что Дениза покорилась и вечером пойдет на свидание. Когда обе продавщицы позавтракали в смежном маленьком зале, где женщин обслуживали с большим комфортом, Полине пришлось помочь Денизе сойти, так как нога ее быстро уставала.
Внизу, в спешке послеобеденной работы, учет товаров сопровождался все нарастающим гулом. Настал решительный час: когда все силы напряглись до предела, чтобы к вечеру закончить работу, мало подвинувшуюся с утра. Голоса звучали все громче, то и дело мелькали руки, продолжавшие освобождать полки и перебрасывать товары, по магазину невозможно было пройти: груды кип и тюков на полу достигали высоты прилавков. Бушующее море голов, махающих рук и спешащих куда-то ног терялось в беспредельной глубине отделов, в смутных, взвихренных далях. То была последняя вспышка рукопашного боя; машина чуть не взрывалась. А на улице мимо зеркальных окон запертого магазина продолжали мелькать редкие прохожие с лицами, бледными от удушливой воскресной скуки. На тротуаре улицы Нев-Сент-Огюстен остановились три высокие простоволосые девушки, судомойки по виду, и, беззастенчиво прижавшись лицом к стеклу, старались разглядеть, что за странная суматоха творится внутри.