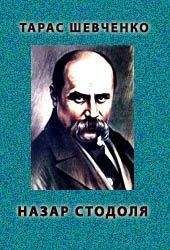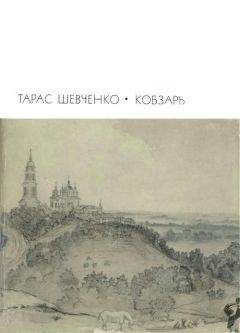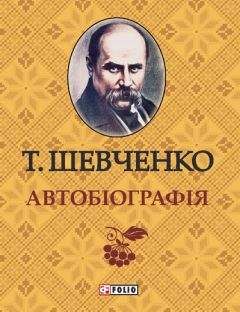Тарас Шевченко - Драматические произведения. Повести
Юлия Карловна хоть бы тебе бровью пошевельнула, как будто эти причитанья совершенно не ее касались.
— Так вы не даете тысячи рублей? — сказала она, когда Марья Федоровна немного поуходилась.
— Не даю! и не даю! — отвечала та.
— Как угодно! Значит, я завтра же могу объявить оберполицеймейстеру насчет Лизы…
Марья Федоровна только взглянула на нее, но не сказала ни слова. Юлия Карловна тоже молчала. Так прошло несколько минут. Потом Марья Федоровна молча встала, сняла со стены образ и, подавая его Юлии Карловне, сказала:
— Клянитесь мне ликом святого мученика Ипполита, что вы завтра же все покончите!
Юлия Карловна произнесла:
— Клянусь, — и даже перекрестилась по-русски. Марья Федоровна вынула из шкатулки пачку депозиток и, отсчитавши тысячу рублей, молча отдала деньги Юлии Карловне, а та так же молча приняла их, пересчитала и, положивши в мешок, сказала:
— До свидания, Марья Федоровна.
— Нет, не до свидания, а совсем прощайте! я завтра уезжаю в деревню.
— Да вы хоть до воскресенья подождите! В воскресенье непременно повенчаем.
— И без меня повенчаете. Прощайте!
— Ну, как хотите. Прощайте, когда не угодно. — И Юлия Карловна удалилась.
В следующее же воскресенье тихо, скромно совершился обряд венчания в Знаменской церкви. В числе прочих любопытных и Марья Федоровна была в церкви. И когда было все кончено, она подошла к Лизе и поздравила ее со вступлением в законный брак.
Лиза вскрикнула и упала в обморок, а Марья Федоровна скрылася в толпе.
Весело возвратилася она на квартиру и отдала приказание Аксинье собираться в дорогу.
— Довольно, будет с меня, — прибавила она, — навеселилась я в этом проклятом Петербурге. Теперь осталося оженить Ипполитушку, и мое дело кончено, — говорила она сама с собой.
Аксинья, видя доброе расположение своей барыни, попросилася со двора и получила позволение. Марье Федоровне и в голову не пришло, что Аксинья просилася на свадьбу к Лизавете Ивановне.
Свадьба была шумная, и больше всех отличался на свадьбе Ипполитушка и к рассвету так наотличался, что его тут же и спать уложили.
На другой день Ипполитушка чувствовал себя дурно, и еще дурнее почувствовал он себя, когда ему сказали, что он заложил свой макинтош{195} Юлии Карловне за три целковых, чтобы сделать подарок невесте. Ипполитушка, подумавши немного, отправился к Юлии Карловне, пал перед нею на колени и вымолил у нее курточку и плащ до вечера только. Юлия Карловна сжалилась.
Кое-как оделся он и вышел на улицу. Куда же теперь идти? Он опять призадумался и призадумался не на шутку. К матери он боялся глаз показать, а три целковых нужно к вечеру достать. А то Юлия Карловна и на порог к себе не пустит с пустыми руками, а это для него хуже всего на свете.
Думал он, думал, да и выдумал вот какой несложный, а, между прочим, верный проект.
«Маменька теперь, — думал он, — уже третий месяц больна и со двора не выходит, следовательно, могут все поверить, что она умерла, и если я, не заходя домой, обойду всех ее знакомых и попрошу, кто что может на погребение матери, неужели не наберу три целковых? У, какой вздор, да одна майорша Потаскуева даст три целковых. Ура! Прекрасно! Я же тебе докажу, поганая чухонка, что я честный человек». — И, одушевленный этой истинно гениальною мыслию, он почти побежал вдоль улицы.
На другой день часу в десятом начали собираться приятельницы на вынос тела покойной Марьи Федоровны. Представьте же себе их изумление, когда их встречала мнимая покойница, просила садиться и благодарила за память! Она думала, что приятельницы проведали о ее скором выезде и пришли проститься с нею. Вскоре она сильно разочаровалась. Одна, а за ней и другая, а за другой и третья приятельницы не выдержали и высказали настоящую цель своего посещения.
Марья Федоровна, как ни крепилася, однакож не могла дослушать красноречивую повесть о похождениях своего единственного Ипполитушки, выгнала вон своих сердобольных приятельниц и послала Аксинью за учителем. Явился скромный педагог, она попросила его написать объявление в полицию о пропаже сына. Когда объявление было готово, она сейчас же отправила его в часть, а педагогу дала двугривенный просила купить лист гербовой бумаги в пятнадцать копеек серебра.
В тот же день перед вечером дали знать из части об овце обретшейся и спрашивали, что с нею делать. Она этого квартального, который пришел ей дать знать о блудном сыне, просила написать к кому следует бумагу о принятии ее сына в городскую тюрьму на сохранение.
На другой день Ипполитушка путешествовал со шнурком на руке, искусно прикрытым коротеньким плащом, и с полицейским хожалым прямо в Литовский замок{196}.
В тот же день, после обеда, сидел за столом у Марьи Федоровны смиренный наставник и искусно изображал на гербовом листе прошение на высочайшее имя о написании в рядовые сына Ипполита вдовы помещицы Марьи Хлюпиной за неуважение к матери.
На прошение не замедлило воспоследовать соизволение, и в одно прекрасное утро вышел Ипполитушка из Литовского замка с партиею арестантов на Московскую дорогу.
Не успел еще Ипполитушка пересчитать этапов между Москвою и Петербургом, как к Марье Федоровне пришел тот же самый квартальный и объявил ей, что она арестована в собственной квартире по предписанию управы благочиния{197}. И это случилося именно в тот день, когда она собиралася оставить навсегда противный Петербург. Квартальный вежливо раскланялся и исчез, оставив за собою след, то есть полицейского солдата у ворот.
Неделю спустя после свадьбы, Лизу вооружили Юлия Карловна и благоверный супруг ее бойко, четко и дельно написанным прошением и послали в канцелярию министра внутренних дел. Прошение было принято самим министром, рассмотрено и пущено в дело. По справкам оказалось, что прошение, как ни казалось с первого разу неправдоподобным, оказалося истинным. Марью Федоровну арестовали и произвели следствие. По следствию она оказалась преступною в угнетении детей своего мужа и в намерении лишить их наследства в пользу своего сына Ипполита. За все это судом приговорена она к заточению в отдаленный девичий монастырь на вечное покаяние.
Так кончились злые ухищрения Марьи Федоровны, и она теперь, лишенная всего, даже личной свободы, в тесной, мрачной келье «издыхает, как отравленная крыса в норе», — как выразился автор «Путешествия Гулливера»{198}.
Елизавета Ивановна, приведя дела свои к благополучному окончанию, выехала из столицы вместе с супругом своим, уже не простым писарем, а коллежским регистратором{199}. Юлия Карловна просилась было тоже с ними в деревню, в виде маменьки или хоть ключницы, но ей решительно отказали, и она осталася попрежнему содержательницей известного заведения.
Во всем уезде, или, лучше, по всей губернии, была известна история Лизиных грустных похождений, вследствие чего чувствительные соседки-помещицы встретили ее с распростертыми объятиями, как героиню истинно романическую.
Вскоре заброшенное село начало обновляться.
Муж Лизы оказался весьма порядочным человеком, а через год и порядочным сельским хозяином, так что заброшенные части хозяйства пришли в движение и приносили свою пользу.
Словом, все воскресло с прибытием Елизаветы Ивановны, но сильнее всех почувствовал ее присутствие бедный слепой Коля. Она с ним ни на минуту не расставалась, ухаживала за ним, как самая попечительная нянька и самая нежная сестра.
Церковь посещал он попрежнему и попрежнему с любовью исполнял обязанности дьячка и пономаря. Это было его самое задушевное и единственное занятие. Часто, возвращаяся поздно от всенощной, он тихо и невыразимо грустно пел: Все упование мое на тя возлагаю, матерь божия, сохрани мя под кровом твоим.
1855, 20 февраля.
Капитанша{200}
В 1845-м, в том самом году, когда наводнением до половины разрушило город Кременчуг, а Крюков остался невредим, а в Киеве так даже к Братскому монастырю вода поднялася, — так в этом критическом году, в конце марта месяца, выехал я из Москвы{201} по Тульскому, тогда только что открытому шоссе. Ехал я (заметьте, на почтовой перекладной телеге) две недели до Тулы да до Орла неделю, итого три недели. А что я вытерпел в эти три недели, так этого никакое перо не в силах описать. Одно только скажу вам, что я не из описания какого-нибудь туриста, а из собственного опыта знаю, что стоит тарелка щей и ломоть хлеба на почтовой станции. То, будучи практически знаком с комфортом почтовых станций, я, выезжая из Москвы, нагрузил порядочную корзину всяким соленым и копченым добром. И что же! всю эту благодать я должен был бросить на второй станции, то есть в городке Подольске, потому что все это — и даже я сам — окунулося несколько раз в грязной снежной воде. Благоразумие требовало возвратиться в Москву, но поди же ты, толкуй с упрямой головою (между нами будь сказано, я-таки не отстал от своих земляков в этой добродетели, то есть в упрямстве, что мы из вежливости называем силою воли). Итак, от Подольска до Тулы пропутешествовал я на пище святого Антония{202}, от Тулы до Орла — на той же самой пище, потому что город Тула хотя в славится ружьями и гармониками, но колбасною лавкой не может похвалиться; словом, я в Туле, и то с трудом, нашел соленого судака, привезенного с берегов синего Дона, или с берегов Урала, или же с берегов матушки Волги. С таким-то провиантом доехал я до города Орла. Остановился я было в гостинице, тут же около почтовой станции, да на другой день как пересчитал свою казну, так только ахнул! У меня всего-навсе было наличных трехрублевая депозитка да мелочи два четвертака, а из Москвы я взял с собою ровно сто рублей серебром; С такою суммою как не доехать из Москвы до Киева? А вот же случилося так, что я только до Орла доехал, а там, то есть в Орле, и сел, как рак на мели. Я призадумался не на шутку и после сугубых размышлений пошел я искать постоялый двор. Опять горе — Ока и Орлик затопили не только все постоялые дворы, но и большую часть самого города. Возвратился я в свой номер еще грустнее, чем из него вышел; в раздумье сел у окна и смотрю на улицу, а по улице плетется запряженная парою невзрачных лошадок большая крытая телега, а около нее с кнутиком в руке идет небольшого роста пузатенький, с рыжей бородкою, мужичок. «А, приятель! — думаю себе, — тебя-то мне и нужно!» — Я отворил окно и крикнул: