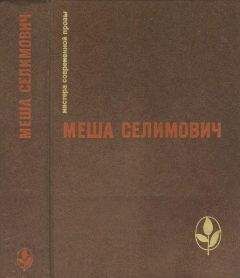Меша Селимович - Дервиш и смерть
– Тот, к кому везешь, высокий человек.
– Тем хуже. Они думают, что для нас честь служить им. Плати сразу.
– Ты, кажется, вымогательством занимаешься, друг. Он держал письмо на ладони, словно взвешивая его.
– Может, и вымогательством. Как ты думаешь, сколько я получу, если отдам его кому-нибудь другому?
– Кому другому?
– Ну, например, муселиму.
_ Я вздрогнул и почувствовал, как меня облил холодный пот. Никогда нельзя все предвидеть, мы зависим от игры случая больше, чем думаем. Напрасно я все рассчитал и подготовил; жадность почтового гонца могла погубить меня в самом начале. Он мгновенно раскусил мою неопытность, и мне нечем было его припугнуть.
Первой мыслью моей было овладеть письмом любой ценой: у меня уже дрожали руки, готовые схватить гонца за воротник. К счастью, я совладал с собой, даже нашел в себе силу улыбнуться и спокойно ответил:
– Поступай, как хочешь. Я не знаю, что в письме, и не знаю, выгадаешь ли ты.
– Я подумаю.
– Слушай, друг. Может быть, ты шутишь, но я тебе теперь не верю. Давай письмо.
– Шучу, говоришь? Я не шучу. Я хотел узнать, опасно ли то, что я везу. Теперь знаю, опасно. Ты сам мне сказал.
– Что я тебе сказал?
– Все. Ты оцепенел, когда я упомянул муселима. Ты хорошо знаешь, что в письме. Вот оно, держи. Другой гонец пойдет через пять дней. Ему ты заплатишь больше.
Я дал ему то, что он просил, и назвал имя силахдара, с облегчением подумав о том, как глупо он шутил со своей и моей жизнью.
Я вышел усталый, почти без сил от ужасной мысли не выпустить его живым. И вручил ему опасное письмо снова, когда убедился, что он просто лукавит.
Но я сделал это легко, быстро освобождаясь от внутреннего давления, а сомнения снова охватили меня, едва я вышел на улицу. Обвинил ли я сам себя и погубил? Оставил ли я доказательства против себя в неверных руках гонца? До этого я неразумно твердил: все сделаю сам. А как может человек все сделать сам?
Дважды направлялся я, чтоб забрать у него письмо, и опять возвращался, не обладая той твердой решимостью, чтоб выйти из игры, а в третий раз, когда страх заставил меня, я вошел во двор почтовой станции с твердым намерением со всем покончить, уничтожить бумаги, говорившие против меня. Однако гонца уже не было. Он вышел в чаршию, никто не знал, за чем.
Теперь мне оставалось только ждать. Я бродил по окрестным улицам, взволнованный, оробевший, злясь на себя, не зная, что делать: продолжать ли вот так глупо блуждать или спрятаться, настолько неуверенный в себе, что стал походить на перепуганного ребенка.
– Не следовало этого делать, – упрекал я себя, не зная точно, в чем я ошибся. Стоило ли вообще начинать или не надо было отправлять письмо? Не начинать означало вообще умыть руки, не отправлять письмо означало ничего не делать, примириться, а этого я не хотел. В чем же я тогда ошибся? Или я разволновался из-за случайности, упущенной в моих расчетах, а они-то, видимо, и оказываются решающими в жизни? Или вследствие неизбежной зависимости от многих людей, но я никому не мог верить.
И тогда, должно быть, абсолютно опустошенный, я почувствовал, что начинаю вяло успокаиваться и целиком полагаться на судьбу. Ничто больше не зависит от меня, и я ничего не могу изменить. Будет то, чему быть суждено. Но не по справедливости. Все равно что, но не по справедливости. О гонце я перестал думать, настолько он незначителен, как ему меня уничтожить? Да и не может человек думать обо всех гонцах на свете.
До полудня я снова стал искать его, не понимая, зачем мне это нужно; прошло столько времени, он мог уже сделать все, что хотел. Но не нашел, он отправился в свой далекий путь.
Если он показал письмо, все скоро кончится. Мне некуда бежать.
У меня не было сил ждать. Два часа неизвестности сморили меня. Чтоб избавиться от кошмара, я направился к муселимату. Стало легче, едва я принял это решение. Конец один, независимо от того, найдут ли меня или я отдамся сам в их руки. И в то же время все иначе, ибо я сам иду навстречу решению. Ко мне вернулось мужество, вернулось бодрое настроение, потому что я изменил центр тяжести, приняв все решение на себя. Мелким выглядело и походило на обман это обращение лицом к угрозе, но все заключалось в этом. Действуешь, не ждешь. Ты участник, а не жертва. Может быть, в этом заключается суть храбрости? Неужели нужно было потратить столько лет, чтоб я смог открыть столь важную тайну?
Я назвал себя караульному и попросил передать муселиму, чтобы он принял меня. Только пусть не говорит «какой-то дервиш», пусть запомнит имя и звание, это важно.
Если он примет меня, я многое смогу ему сказать. Попросить милости для друга, хаджи Синануддина. Объяснить, почему я просил полицейских отпустить его. Предупредить о волнении, что охватило чаршию. Высказать массу вещей, которые ни к чему не обязывают, но говорят о доброй воле.
Я не был спокоен, но знал, что это самое лучшее из всего, что я могу сделать: я не прячусь, не убегаю, сам прихожу, чтоб поговорить, с добрыми намерениями и чистой совестью.
Если он получил письмо, меня сразу пропустят, и все быстро выяснится. Но даже если это и случилось, все равно есть надежда. Письмо принадлежит Али-аге, я только написал его. И пришел, чтоб рассказать.
И пока я ожидал, размышляя о возможных вопросах, мне пришло в голову, что, помимо этого отвратительного ожидания и разговора, полного полуправды и лжи, мне придется совершить многое, что нельзя будет оправдать добрым делом. Может быть, я буду вынужден совершить нечто, чего устыдился бы в иной, пустой жизни, совершить во имя справедливости, которая важнее всех мелких грехов.
Однако еще можно остановиться, если это божья воля.
Господи, жаждуще шептал я про себя, глядя на серое небо над городом, обремененное снеговыми тучами, боже, хорошо ли то, что я творю? Если нет, поколебай мою твердость, ослабь мою волю, лиши меня уверенности. Дай мне знамение, оживи листву тополя дуновением ветерка, здесь не было бы никакого чуда в эту осеннюю пору. И я откажусь, каково бы ни было мое желание все исполнить.
Не дрогнули кроны тополей на берегу. Они стояли спокойно, вонзившись тонкими вершинами в облачное небо, молчаливые и холодные. Они напомнили мне о тополях родного края, над рекой, что шире и прекраснее этой, под небом, что просторнее и прекраснее этого. Случай был неподходящий, чтоб погружаться в воспоминания, они возникли, как молния, как вздох. И исчезли. А серый день остался, и тяжкие облака над головой, и какой-то мутный осадок в душе.
Появится ли тень Исхака? Это ее время.
Караульный возвратился. Муселим не может меня принять.
– Ты сказал, кто я? Не забыл мое имя?
– Ахмед Нуруддин. Шейх текии. У него нет времени, говорит. Приходи в другой раз.
О письме он не знает.
И вдруг исчезли все тени, я позабыл о тополях, о сером дне, о печали, о воспоминаниях. Я был прав: ничего не нужно ожидать, всему следует идти навстречу. Если человек не глупец и не трус, тогда он не беспомощен.
В воротах Али-аги стояла в шальварах служанка кади. Шепотом Зейна сообщила мне, что супруга кади у отца, ей дважды пришлось ходить за ней. Ага требовал, чтоб она обязательно пришла, зачем – неизвестно.
Я замер на ступеньках. Из распахнутой двери доносился разговор. Я не стал бы подслушивать, если б он не поразил меня и если б не был мне столь необходим. Старик настаивал, чтобы кади непременно пришел к нему.
– Это важно, – хрипел он. – Он сделал глупость, он или кто другой, но ему тоже достанется. Пусть придет ко мне или пусть отпустит человека. Чтоб я тоже мог успокоиться.
– Я не вмешиваюсь в его дела, они меня не касаются. А сейчас менее всего. Да и тебе лучше в них не влезать.
– Ты думаешь, я хочу в них влезать? Не хочу. И не могу. Я стар, немощен, болен. Как могу я заботиться о других? Но я должен. Этого ждут от меня.
Его ли это голос, плаксивый, малодушный, размягченный от жалости к самому себе? Его ли это слова? Господи всемогущий, неужели я никогда ничего не узнаю о людях!
– Ты не должен, ты сам хочешь. Ты привык к тому, чтоб звучало твое слово. Тебе это нравится.
– Не нравится. Я не хочу ничего, у меня нет сил ни для чего. У меня нет сил даже им в этом признаться. Помоги мне, пусть освободят его ради меня. Чтоб не толковали, будто я позабыл друга, а я позабыл о нем. Та капелька жизни, что сохранилась во мне, – для тебя, И для Хасана. А как мне им об этом сказать?
– Хорошо, отец, мы еще поговорим, конец света еще не наступил.
– Скорей. Как можно скорей.
– Я приду завтра.
– Приходи пораньше, скажешь, что он говорил. Ночь – хорошее время для разговоров.
Что такое? Первая трещина появилась там, где скала казалась мне самой надежной. Презрение к слабости, которую он таит, и стыд, словно я застал его за позорным деянием, родились у меня в душе.
Я прошел к месту, где оставляют обувь, словно только что появился.
Она подняла руку, чтоб опустить на лицо вуаль, но, узнав меня, не опустила ее. Я осведомился о здоровье отца, она отвечала кратко и хотела пройти мимо. Мне пришлось задержать ее, я больше не был робким, как прежде.