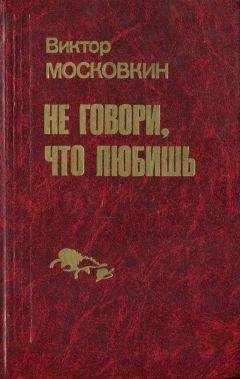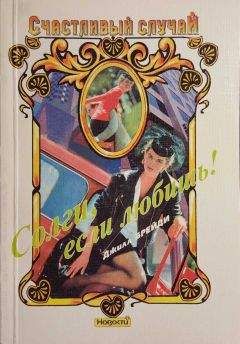Николай Чебаевский - Если любишь
Еле слышно, как обреченная, она скорее выдохнула, чем произнесла:
— Значит, было…
— Было…
Деревня была полна звуков. Гудел двигатель электростанции, стучал молот в кузнице, шумели на току машины, кричали где-то ребятишки, лаяли собаки. Но на Ланю с Максимом навалилась такая глухая тишина, какая стоит лишь в глубоких пещерах. И хотя стоило руку протянуть — можно было коснуться друг друга, оба ощущали себя в таком одиночестве, разделенными такой стеной, что не дотянешься, не дозовешься. Первой все-таки обрела голос Ланя.
— Тогда — прощай! — она шагнула в сторону, чтобы обойти Максима.
Он раскинул руки, загородил весь узкий переулочек.
— Постой! Пойми… невольно это вышло. Больше не повторится. Я тебя по-прежнему…
— Замолчи! Отойди! — Ланя так побледнела, так гневно глянула на Максима, что руки его, загораживающие дорогу, упали, как перешибленные.
Тоже побледнев, Максим отступил, сказал умоляюще:
— Ну, прости меня…
— Я сказала — прощай!
— Нет, нет! Пойми… Ты же способна понять, а понять — значит, простить. Другие прощают не такое…
— Другие… — начала Ланя и вдруг замолчала. Минуту, а может и две, стояла она, как бы не зная, что ответить. У Максима даже возникла робкая надежда: это молчание, может быть, и есть начало примирения. Конечно, долго бы еще мучила совесть, однако…
Однако Ланя сказала:
— Иногда прощают, чтобы семью не разрушать. Но жизнь начинать с этого нельзя!
В голосе ее Максим уловил непоколебимость. И понял — это конец. Но все-таки попытался удержать неудержимое.
— Я жить без тебя не могу! — опять раскинул он руки, чтобы не упустить Ланю. На глазах у него навернулись слезы, губы дергались.
— Не унижайся, Максим! Хотя бы теперь проявил волю, показал свое достоинство.
— Зачем они мне теперь?
— Хотя бы затем, чтобы без отвращения вспоминалось все хорошее, что было между нами. — Ланя передвинула ведра на одно плечо, обошла парня. Но дужка ведра все же задела его локоть, и вода плеснулась ему под ноги.
Максим отупело поглядел на лужицу, в которой барахтался какой-то жучок, невольно угодивший в нежданную купель.
— Но ведь столько хорошего было! Разве можно все оборвать? — простонал он.
Ланя ускорила шаг. Максим, постояв еще немного, поплелся в другую сторону.
На выходе из переулка Ланя все же не удержалась, посмотрела на парня. Он шел как побитый, понуро опустив голову, еле волоча ноги. Так он ходил после полиомиелита. Девушка со страхом подумала: уж не парализовало ли его опять с горя? Сердце у нее так и рванулось вслед за Максимом. Родилось неодолимое желание бросить ведра, догнать парня, повиснуть у него на шее, выплакать горькие слезы, которые душили ее последние дни.
Но Ланя не подчинилась этому порыву. Никакие слезы не могли облегчить беду. Счастье нельзя было склеить из обломков. Этого она не желала.
Вскинув голову, Ланя пошла дальше.
До дому Максим добрел как во сне. Лишь у крыльца очнулся, сообразил, что домой идти сейчас не следовало. Ну что он скажет матери, когда она увидит его такого побитого?
Разумнее всего было не показываться никому на глаза, пережить первые, самые горькие дни наедине. Но если мать узнает, что он был у крылечка и не зашел домой, — как это обидит ее! А через два дня предстоит отъезд в институт, и разве не жестоко на прощание оставить ее с этой обидой?
И Максим, не решаясь ни уйти, ни открыть дверь дома, сел на ступеньку крыльца. Долго бы, наверное, сидел в надежде мало-помалу овладеть собой, показаться матери «нормальным». Но мать видела, как он прошел под окном. И, подождав его некоторое время, сама вышла па крыльцо.
— Ты что тут сидишь? Я ужин собрала.
— Так, — поспешно отозвался Максим. — Я просто устал.
Чтобы не выдать себя, он даже не взглянул на мать, а принялся стаскивать грязные сапоги. И старался показать, что весь ушел в это занятие.
Только мать трудно было провести. Она сразу заметила — сын угнетен. Правда, это не испугало ее. Она сочла, что его все еще терзает бесследное исчезновение Алки.
— А знаешь, я могу тебя обрадовать, — многозначительно сказала она за ужином. — Алка жива и здорова, она прислала письмо.
— Знаю… — уныло произнес Максим, не отрывая глаз от тарелки с супом.
— Знаешь? — Зинаида Гавриловна глянула на сына удивленно. — Тогда не пойму, отчего такой мрачный.
— Да так. Я уже говорил…
— Устал! Ну что ж, поужинаем — и ложись спать, отдыхай, — сказала мать со вздохом. И вздох этот можно было расценить только так: «Не хочешь — не говори. Полная откровенность между родителями и детьми не всегда возможна. Жаль, но не сержусь».
— Трудная нынче уборка, — без надобности продолжал оправдываться Максим. — Но ничего, скоро в институт.
— Ты говоришь об этом так, будто собираешься не на учебу, а на похороны.
— С похорон я пришел!.. — вырвалось у Максима.
Зинаида Гавриловна встревожилась. Но вида не показала. Спокойно положила ложку, спросила, как о самом обычном:
— Загадочно говоришь. Нельзя яснее?
В семье у них было заведено не таиться друг перед другом. Радость и горе одного всегда считались радостью и горем другого. Но теперь Максим не мог открыться матери.
— Нет, мама. Прости, больше я ничего не могу сказать. Даже тебе, — жарко вспыхнул Максим.
Зинаида Гавриловна с особым вниманием посмотрела на сына. Помолчала, подумала, опять вздохнула.
— Что ж, бывают такие вещи, о которых никому не стоит говорить. Честнее пережить, передумать все одному.
— Я знал, ты поймешь, — благодарно сказал Максим.
— Что смогла — поняла. Но я бы хотела, чтобы понял и ты: голову повесишь — дороги не увидишь. Запомни эту поговорку.
— Запомню…
— И еще скажу, раз уж добралась до мудрых изречений. Настоящий человек потому и настоящий, что способен победить даже себя.
Еще больнее стало Максиму от этих слов. Но то, что мать разгадала, где кроется главная беда, заставило его подтянуться. Нельзя, невозможно было и дальше держаться перед ней расслабленным. Потому что нельзя, невозможно было ему вдобавок ко всему потерять еще и уважение матери.
И Максим, собрав остатки воли, поднял голову.
Евсей перемогался еще с того дня, когда ходил шишковать. Напуганный Спиридоном, скрываясь от колхозников, он свалился тогда в медвежину. Так зовут в здешних местах ямы, оставшиеся в почве от вывороченных буреломом деревьев. Потому что в таких ямах, если бывают они на сухих местах, нередко устраивают свои берлоги медведи. А когда бурелом пронесется там, где под деревьями близко грунтовые воды, да если потом еще лето и осень случаются дождливыми, то медвежины эти больше всего похожи на безобидные лужи. А сунься в такую лужу — можешь окунуться с головой.
Евсей угодил в неглубокую медвежину. Но, запнувшись за корневище, он плюхнулся в нее пластом, вымок до нитки. И как потом ни старался согреться на ходьбе, домой явился синий, продрогший. Не смогла выгнать простуду и жаркая баня. Начало ломать Евсея: по ночам бил кашель, бросало то в пот, то в озноб. Да еще зашиб, знать, о коряжину бок — болело под ребрами, на теле выступил страшенный синяк.
Все же старик не поддавался болезни. В медпункт к Зинаиде Гавриловне не пошел, пользовал себя разными травами — настоями. И, возможно, выстоял бы в конце концов. Но однажды заявилась Аришка и доконала его. Усевшись на скрипучую табуретку возле его постели, она сообщила поначалу добрую весть.
— У Максима-то с Ланькой все рассохлось. Максим спутался с Алкой, а Ланька не стерпела, указала ему от ворот поворот.
— Так это ж не худо, — оживился старик. — Ты уж теперь половчей возьмись за Ланьку-то. Бог даст, скрутим строптивую. В горе-то станет податливей. В нашей общине будет не лишняя.
Тут Аришка неожиданно показала зубы.
— На меня не надейся, старый кобель. Больше плясать под твою дудку не стану.
— Окстись, шальная! При чем тут моя дудка? Ты давно сама себе барыня. Делай, как тебе сподручней.
— Ха! Сама себе барыня, делай как сподручней, а на руку чтоб шло тебе да Ивашкову. К лешему вас!
— Ты, никак, с ума спятила?
— Наоборот, за ум берусь! Соображать начинаю, что к чему. Жалко только — раньше не одумалась. И душу и тело в стаде вашем испоганила.
— Побойся кары, богохульница!
— Не стращай! Кара страшна только людская. А божья — дураков теперь мало в страсти загробные верить. Сам, небось, ни на бога ни на черта не надеешься, Ланьку мне велишь опутать.
— Уймись, изыди, сатана в юбке! — затрясся Евсей.
— Уйду, пес лысый! Только на помощь больше не надейся. Не стану я Ланьку опутывать, потому что поняла — не опутали бы меня, так я бы тоже горе свое пережила и потом без стыда по земле ходила.
— Никто тебя не путал. Сама со всеми путалась!