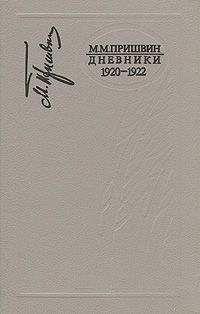М. Пришвин - Дневники 1914-1917
14 Октября. Иосиф о Протопопове. Все правда, но тяжело, тяжело слушать и так понятно, почему существует «Новое Время».
18 Октября. В воскресенье Виктор Иванович Стенковский депутат от Задонска. Вчера — религиозно-философское общество: жизнь так изменилась, а разговоры те же самые. Предавали анафеме Бердяева за его книгу [220].
19 Октября. Люди разбегаются: больше миллиона в бегах. Спор с депутатом Стенковским: подъем был в интеллигенции, она подняла народ на немца. Это естественно, и знаменательна самая постановка вопроса теперь: автор обманул читателя. Читаешь о Франции и за Россию больно: она ждала героического подвига, а его не вышло, вместо него чертовщина.
Из материальных частиц этого, трагически погибающего теперь мира, возникают новые жизнерадостные существа, отвратительного вида…
В трамвае: я раненый, а ты?… и, в сущности, протест этот не к лицу, а в пространство.
Все дело в том, чтобы стать ближе к акту (мировой войны), но как: можно воевать, не воюя — душой, можно совершать дело милосердия, не участвуя — сердцем. И можно не воевать, а лечить, и стать к такому делу ближе — война и сестра милосердия.
Одна из самых нелепых затей — это поиски многими нынешними писателями военных сюжетов; писатель настоящий может, по-моему, гораздо сильнее подействовать, если только он переживает мировой факт войны изображением не полей сражения, а какой-нибудь овечки.
Война государств за территорию. И война в семье за землю…
21 Октября. Тяжкое настроение общества — перед чем-то? Слухи чудовищны и, кажется, верные. Зачуяли мир. А Россия, необъятная страна, стала такой маленькой. 17 миллионов ушло, и нет никого. И деятели все старые немногие; когда еще знал Челпанова, и опять все повторяют: Челпанов да Челпанов.
25 Октября. Как раньше (на трубу Архангела), так теперь в учреждения обороны, освобождающие от воинской повинности; определение армии: «собрание людей, не умевших уклониться от воинской повинности». Частица себя, общая всем, которую узнаешь в разные эпохи. Кажется, живешь так особенно, так необыкновенно — это свое «я», и вот видишь, что оно как все поступает.
В глубоком личном тылу. Горький сказал, какое же это имеет отношение к литературе. Во власти у общества.
Она, Россия, такая, что если собрать ее всю в одно место и поставить на дело — великая страна, вот как на фронте, а как уйти и что-нибудь делать в углу — упаси ты, Бог, упаси!
26 Октября. Рассуждение: для государства полезнее техника, чем рядовой — какой это вздор. Надменная морда Коновалова: не освобождает. Знакомые рожи. Похоже на первое время: тогда все так ехали на войну, теперь устраиваются в тылу. И вообще: первая часть, как наступление, вторая, как отступление.
Мы охотились этой осенью с бывшим монопольщиком Алексеем Ивановичем на зайцев в тех самых местах, где охотился некогда Тургенев. Гончая долго гоняла русака, и никак мы не могли его перехватить. Наконец, с бугорка я увидел, что заяц бежал по дороге прямо на Алексея Ивановича и он, спрятавшись за кустиком, видел его и целился. Времена совсем были не тургеневские, но сердце охотничье одинаково во все времена. Сердце замерло и сжалось в кулачок в ожидании выстрела. Но Алексей Иванович не выстрелил, и заяц опять убежал, и за ним одна за другою в отчаянии и ужасе промчались все гончие. Я в бешенстве, как Шаляпин, накинулся на Алексея Ивановича и стал осыпать его в высшей степени обидными упреками. Он долго выслушивал меня и ничего не возражал, видимо, сам удрученный. Все объяснялось невероятной скупостью Алексея Иваныча: выстрел стоил тридцать копеек и дальше десяти шагов он не решался выпустить этот драгоценный выстрел.
Заяц не вернулся. Гончие пришли с высунутыми языками. Вечерело. Мы пошли ночевать на хутор к Алексею Иванычу. Это по большой дороге, в тех самых местах, где раньше была монополия и где Алексей Иваныч лет уже пятнадцать торговал казенным вином. Теперь он этот дом и усадьбу с десятью десятинами земли купил себе и зажил тут хуторянином. Лавочка тут у него есть. Мы посылаем сюда за спичками, за салом, за постным маслом и всякой всячиной. Показывал мне Алексей Иванович свое хозяйство с каким-то упоением и не сразу я понял, что все это не так покупается, что под этим у него таится какая-то философия, что ли. Вот он свежую тушу показывает, не просто, нет: кусочек соли — так он на ходу поясняет — величиной в детский кулак достаточен для кулеша, и вся свинья одному человеку хватит года на два.
— А пшено у меня свое тоже; десятины гороха хватит тоже года на два, чего же больше? Картошка своя, две коровы, куры несутся, два теленка, овцы, шерсть лежит с прошлого года, отдам валенки свалять, тулуп закажу из своих овчин. Дрова и пр.
Часа два выслушивать все такое не хватило у меня терпения и, главное, не мог я простить упущенного из-за тридцати копеек зайца. И внутренне все раздражался и раздражался. А он как нарочно, будто что-то коренное доказывал мне этими своими вычислениями…
— Садик, двадцать яблонь и, значит, сколько от них: на падалицу — кур, продал по 7 р. пудик, съели яблок, и бочку помочил — запас опять на целый год.
Ни одного запаса меньше, чем на год, не было. Чудовище пожирало деревню. Я спросил: — А что как вас призовут? — Он открыл рот. — Двадцать зубов не хватает. — На это теперь не посмотрят. — Не посмотрят — ссыпкой займусь (и чешет шею). — Опоздаете, пропустите. — Не пропущу-с.
И такая уверенность, такая убежденность, но не самодовольство, а что-то исподнее, опять какое-то исподнее несогласие со мной и осуждение.
Вокруг дворики — народ косило — чудовище пожирало их.
28 Октября. Мне на деле удалось узнать его тайны: семейный человек приезжает в столицу, селится в номере, утром пишет романтические повести, днем обивает пороги превосходительств, выпрашивая отсрочки от войны.
Я начинаю думать, что эти поиски хуже, чем самое худшее в этом деле, похоже на то, как бы семейный и всюду принятый как порядочный человек потихоньку от семьи вышел на улицу, и потому что вообще-то он очень порядочный человек и это ему не к лицу, не имеет успеха у публичных женщин и, посрамленный, возвращается с улицы.
Но какой же выход? Отказ — малы мотивы, повиновение — малы мотивы для послушания. А средний путь (проституция) — противнеет с каждым днем все более и более. Иванушке нет дороги. Вернее, кажется, средний и противен-то он, вероятно, потому, что хочется правого и левого, а «духов» не хватает. Да и вообще так часто бывает: высшего — это ему не удается достигнуть, тогда он берет среднее и меряет его тем, что почувствовал, достигая высшего. А среднее есть просто факт жизни, живущей без отношения к окраскам ступеней достижения.
Пораженцы все отказываются от этого названия, но Суханов имеет вид настоящего пораженца, его физиономия, манеры, — все до того противно, глистообразно. Это единственный пораженец.
На трамвае у рабочих был разговор: мы, рабочие, на учете, понятно, а как буржуазия теперь на учет лезет…
Извозчик говорит господину, желающему ехать на такси: «как дармоед, так на таксе…»
29 Октября. Мои поиски места похожи на то, как семейный порядочный человек вышел на улицу искать себе даму…
3 Ноября. Три дня на службе в Министерстве Торговли и Промышленности у И. К. Окулича.
Три дня на службе. Окулич — социалист в монархизме, не герой, а та обычная фигура из романа «Война и мир», прекрасная натура. И какой бы ни был строй, он таким и останется. Есть чиновники очень ласковые, но вечно обижают людей своими замечаниями, и их ненавидят служащие, а этот ругается, резок и груб, а никто не обижается, потому что сердит его дело, а не личность: если он скажет «осел!», то, значит, тот действительно осел, и все документы показывают, что он осел настоящий, так что обижаться если, то обижаться на собственную свою природу.
Занимаюсь тем, чего совсем бы не должно быть в это деловое военное время, я занимаюсь междуведомственной перепиской в должности делопроизводителя одного бюро, ведающего делами продовольствия. В отчаянии показываю господину Жомини бумагу, всю исчерканную Его Превосходительством. «Это зависит от настроения Его Превосходительства…»
Как представитель своего ведомства, я должен быть против твердых цен и реквизиций. Я утонул в комиссиях, как тонут в воде маленькие дети.
В этом опыте жизни без семьи так ясно становится, что существенного значения она в моей жизни и не имела, и то, что казалось, то только казалось: оно чисто внешним образом закрывает мою эгоистическую холостяцкую природу.
На мгновенье, да, это мгновенье было! мы встретились с ней в чужом краю [221] — незнакомые люди разного воспитания, разной среды и как метеор, пролетая чужой атмосферой, загорается и кажется он летящей звездой, и на мгновение открывает нам эту тайну великого огненного движения, страсти, скрытой за спокойствием ночных звезд, так и тут на мгновение открылась вся тайна жизни и на мгновение мы понимали друг друга как одно существо. И в это мгновение она мне сказала: «Вы сразу видите хорошего человека, и это в вас лучшее… да, это в вас самое лучшее». И это было так верно, и все было верно, что мы говорили, и навсегда осталось так, как открылось, и все эти вопросы были как откровение.