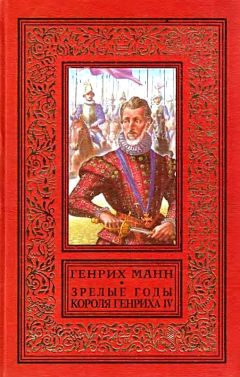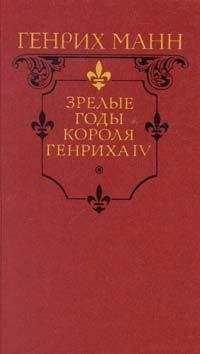Генрих Манн - Верноподданный
— В конце концов вы не так уж много потеряли в его лице.
— И это говорите вы! — накинулась на него Густа. — Кто, как не вы, травил его! Вы, который… Мне кажется более чем странным, что он именно вас прислал сюда…
— Что вы имеете в виду? — в свою очередь, насторожился Дидерих. — Полагаю, что вы, многоуважаемая фрейлейн, не хуже моего знаете, чего можно ожидать от сего господина. Ибо там, где образ мыслен дряблый, там все дряблое. — Она смерила его ироническим взглядом, но он произнес еще строже: — Я все это наперед предсказывал.
— Вам это было выгодно, потому и предсказывали, — язвительно бросила она.
А он насмешливо:
— Вольфганг сам просил помешивать в его горшке. А если бы горшок не был обернут сотенными купюрами, он давно перестоялся бы.
— Да что вы знаете! — вырвалось у Густы. — В том-то и дело, этого-то я не могу ему простить, что ему все трын-трава. Даже мои деньги!
Дидерих был потрясен.
— С таким человеком нельзя иметь дело, — решительно сказал он. — У подобных людей нет ничего святого, на них ни в чем нельзя положиться. — Дидерих назидательно кивнул головой: — Кто равнодушен к деньгам, тот не понимает жизни.
— В таком случае вы-то ее прекрасно понимаете, — отпарировала Густа и слабо улыбнулась.
— Будем надеяться, — сказал он.
Она подошла к нему ближе и, часто моргая, смотрела на него сквозь не просохшие еще слезы.
— Вы все-таки оказались правы. Думаете, я очень буду горевать? — Она скривила губы. — Да я вообще его не любила. Попросту ждала случая избавиться от него. А он, как видите, оказался таким невежей, что сам оставил меня… Обойдемся и без него, — прибавила она, бросая на Дидериха обольстительный взгляд.
Но Дидерих лишь отобрал у нее свой носовой платок, а остальное, очевидно, его нисколько не прельщало. Густа поняла, что он по-прежнему строго осуждает ее, как тогда, в «Приюте любви». И она смиренно молвила:
— Вы намекаете на положение, в котором я невольно очутилась?
— Я ничего не сказал, — возразил он.
— Я не виновата, что люди говорят обо мне всякие гадости.
— Я тоже не виноват.
Густа опустила голову:
— Ну что ж, надо, пожалуй, смириться. Такая девушка, как я, не заслуживает, чтобы приличный человек, с серьезными взглядами на жизнь, взял ее замуж. — Говоря это, она все же искоса поглядывала, какое впечатление производят ее слова.
Дидерих засопел.
— Может, конечно, случиться… — начал он и сделал паузу. Густа затаила дыхание. — Допустим, — сказал он, отчеканивая каждое слово, — что как раз человек, весьма и весьма серьезно смотрящий на жизнь, человек современного толка, с широким взглядом на вещи, с чувством полной ответственности перед самим собой и перед своими будущими детьми, точно так же, как и перед кайзером и отечеством, возьмет на себя защиту беспомощной женщины и поднимет ее до себя.
Выражение лица у Густы становилось все молитвеннее. Она сложила ладони и, склонив голову набок, благоговейно смотрела на Дидериха. Но ему, по-видимому, этого было мало, он явно требовал чего-то исключительного — и Густа неуклюже рухнула на колени. Тогда Дидерих милостиво приблизился к ней.
— Так быть по сему. — И он вперил в нее испепеляющий взор.
В эту минуту вошла фрау Даймхен.
— Что это? — спросила она. — Что случилось?
— Ах, боже мой, мама, мы тут ищем мое кольцо, — не утратив присутствия духа, ответила Густа.
Фрау Даймхен тоже опустилась на колени. Дидерих не захотел отстать от матери и дочери… Некоторое время все трое молча ползали по полу, пока Густа не вскрикнула:
— Нашла, нашла! — и решительно поднялась. — К твоему сведению, мама, я передумала.
Фрау Даймхен, которая никак не могла отдышаться, поняла не сразу. Густа и Дидерих объединенными усилиями растолковали ей положение дел. Она призналась, что и сама уже подумывала об этом: ничего не поделаешь, людскую молву не перешибешь.
— Вольфганг все равно немножко чересчур скучный, пока не выпьет. Вот только их семья: Геслинги не чета им.
— Ну, это мы еще посмотрим, — возразил Дидерих и объявил, что последнее слово не сказано, пока не урегулирована практическая сторона дела. Он пожелал увидеть документы, потом потребовал полной общности имущества, и чтоб никто и никогда не смел спрашивать с него отчета о расходовании денег! При малейшем возражении он брался за ручку двери, и Густа тихо, испуганно говорила матери:
— Ты хочешь, чтобы завтра весь город гудел о том, что один меня бросил и второй уже пятки показал?
Когда Дидерих убедился, что его не обманули, на него нашло благодушное настроение. Он поужинал с дамами и собирался уже, без дальних разговоров, послать служанку за шампанским, чтобы отпраздновать помолвку. Фрау Даймхен обиделась: разве у нее в хозяйстве не найдется шампанского, ведь у них бывают господа офицеры, им без шампанского никак нельзя.
— Вообще дуракам счастье. Ведь Густа могла б заполучить в мужья и господина лейтенанта фон Брицена.
Дидерих самодовольно рассмеялся. Все складывается великолепно! Ему — Густины денежки, а Эмми — лейтенант фон Брицен!..
Все развеселились. После второй бутылки шампанского жених и невеста, сидя рядом и покачиваясь, то и дело прижимались друг к другу, ноги их сплелись до колен, и рука Дидериха скрылась под столом. Напротив них фрау Даймхен, держа руки на животе, вертела большими пальцами. Вдруг Дидерих издал громовой треск и тотчас заявил, что всю ответственность за содеянное берет на себя, так, дескать, принято в аристократических кругах, например в доме Вулковых, куда он вхож.
Какая была сенсация, когда Нетциг узнал, что события приняли такой оборот! На вопросы, следовавшие за поздравлениями, Дидерих отвечал, что еще не знает, какое он сделает применение полутора миллионам марок своей жены. Возможно, что переедет в Берлин, для него, с его широким размахом, это было бы самое правильное. Так или иначе, но фабрику свою он думает продать, как только представится подходящий случай.
— Бумажная промышленность вообще переживает сейчас кризис, а мне теперь и подавно нет смысла держать в Нетциге такое худосочное предприятие.
Дома у Геслингов царила безоблачная атмосфера. Сумму, положенную сестрам на карманные расходы, Дидерих увеличил, а матери разрешил всласть упиваться трогательными сценами и объятиями, он даже милостиво принял ее благословение. Густа, всякий раз, как она являлась, неизменно выступала в роли феи, приносила вороха цветов, конфеты, серебряные сумочки. Дидерих, казалось, шествовал рядом с ней по цветам. Дни пролетали, божественно легки: покупки, завтраки с шампанским, предсвадебные визиты. Жених и невеста, оживленно болтая, разъезжали в карете, а на козлах, рядом с кучером, восседал почасно оплачиваемый лакей благородной внешности.
Лучезарное настроение, во власти которого они находились в те дни, привело их на «Лоэнгрина». Обе матери скрепя сердце остались дома; жених и невеста, вопреки правилам хорошего тона, настояли на своем и сидели одни в аванложе. У стены стоял, скрытый от нескромных глаз, красный плюшевый диван, продавленный, весь в пятнах; было в нем что-то дразнящее и сомнительное. По сведениям Густы, эта ложа принадлежала господам офицерам, которые устраивали здесь встречи с актрисами.
— С актрисами мы счастливо разделались, — сказал Дидерих и прозрачно намекнул на то, что, откровенно говоря, до недавнего времени он был связан с актрисой этого театра, имени которой, натурально, назвать не может… Лихорадочные расспросы Густы вовремя пресек стук капельмейстерской палочки. Они заняли свои места.
— Гениш стал еще неаппетитней, — немедленно заметила Густа, кивая в сторону дирижера.
На Дидериха он произвел впечатление человека не совсем здорового, но зато высокоартистического. Он отбивал такт всеми четырьмя конечностями, черные спутанные пряди волос били его по крупному землистому лицу с жирными, трясущимися в такт щеками, и все его тело ритмично сотрясалось под фраком и брюками. Оркестр гремел что есть силы, но Дидерих заявил, что не признает увертюр.
— И вообще, — вторила ему Густа, — для того, кто слышал «Лоэнгрина» в Берлине…
Не успел подняться занавес, как она уже презрительно хмыкнула:
— О боже! Ну и Ортруда[114]! В каком-то халате и в корсаже чуть ли не до колен!
Внимание Дидериха больше привлекал сидевший под дубом король, как видно, выдающаяся личность. Облик его не производил особенного впечатления; Вулков умел пользоваться своим басом и своей бородищей с гораздо большим эффектом. Но то, что король изрекал, радовало сердце националиста: «Империи честь повсюду хранить: восток ли то будет иль запад». Браво! Всякий раз, когда он пел слова «германский», он вскидывал вверх правую руку, а музыка, в свою очередь, подкрепляла этот жест. Да и вообще сочно подчеркивала все, что следовало. Именно сочно — вот правильное слово. Как жаль, что к его речи по поводу канализации не было подобного музыкального сопровождения! Герольд же, напротив, навевал на него грусть: это был точь-в-точь толстяк Делич, легендарный фанатик пивного культа. Под впечатлением этого сходства Дидерих начал всматриваться в лица латников, и ему уже повсюду чудились новотевтонцы. Они обзавелись брюшками и бородами и, памятуя свое суровое время, оделись в жесть. Не все из них, видно, жили в достатке; благородные рыцари с дублеными физиономиями и коленями точно на шарнирах напоминали собой заурядных чиновников средневековья, а представители черной кости были еще менее примечательны; одно только было несомненно: иметь дело с этими людьми, обладающими безукоризненными манерами, было бы весьма приятно. Вообще Дидерих пришел к заключению, что в этой опере сразу чувствуешь себя в родной стихии. Щиты и мечи, много бряцающей жести, монархический образ мыслей, победные клики, высоко поднятые стяги, да еще знаменитый немецкий дуб: так и подмывает самому выйти на сцену.