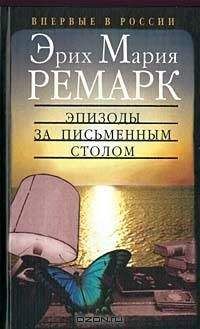Эрих Ремарк - Тени в раю
Холт колебался.
— Но этот фильм должен принести доход, — сказал он наконец.
— Что?
— Студия вкладывает в него почти миллион долларов. Это значит, что прокат должен дать более двух миллионов, прежде чем мы получим первый доллар. Зрители должны валом валить на этот фильм, понимаете?
— И что же?
— Тому, о чем вы говорите, Роберт, у нас никто не поверит! Скажите по совести, все действительно так, как вы сказали?
— Хуже. Много хуже.
Холт плюнул в воду.
— У нас этому никто не поверит.
Я поднялся с места. Голова у меня трещала. Теперь я в самом деле был сыт по горло.
— Тогда оставьте это, Джо. Неужели это издевательство никогда не кончится?! Америка воюет с Германией, а вы убеждаете меня, будто ни одна душа не поверит в злодеяния немцев!
Холт хрустнул пальцами.
— Я-то верю, Роберт. А хозяева студии и публика — нет. Никто не пойдет на такой фильм. Тема и без того достаточно рискованная. А мне хочется сделать этот фильм, Роберт. Но хозяев студии не переубедишь! Я бы предпочел снять документальный фильм, но он, без сомнения, провалился бы. Студия настаивает на мелодраматическом фильме.
— С похищенными девушками, истерзанными кинозвездами и бракосочетанием в финале? — перебил я его.
— Не обязательно. Но, разумеется, с побегом, дракой и щекотанием нервов.
К нам пришвартовался Скотт.
— Прошел слух, что здесь не хватает спиртного. Он поставил на край бассейна бутылку виски, бутылку воды и два пустых стакана.
— Переносим пир в мою конуру. Если нуждаетесь в корме, гребите за мной. Есть бутерброды и холодная курица.
Холт схватил меня за рукав.
— Еще десять минут, Роберт. Только десять минут, чтобы обсудить практические вопросы. Остальное — завтра.
Десять минут превратились в целый час. Холт был типичным порождением Голливуда: ему хотелось бы сделать что-то стоящее, но он мог пойти и на любые компромиссы и еще пытался при этом доказывать, что решает серьезные художественные проблемы.
— Вы должны мне помочь, Роберт, — сказал он. — Мы должны постепенно, шаг за шагом, претворять в жизнь наши идеи — petit a petit,[31] а не одним махом, не наспех.
Это французское выражение меня добило. Я быстро простился с Холтом и пошел к себе. Некоторое время я лежал на кровати, кляня себя на чем свет стоит. Потом я решил, что завтра позвоню Кану — ведь у меня теперь есть деньги. Я решил позвонить и Наташе; до сих пор я написал ей только два коротких письмеца, да и то с большим трудом. Она была не из тех, кому пишут длинные письма. Так мне, по крайней мере, казалось. Скорее всего, она предпочитала телефонные разговоры и телеграммы. Но на таком расстоянии мне трудно будет выразить свои чувства. Когда она рядом, все хорошо, все полно значения, все волнует, а когда ее нет — она кажется далекой и недоступной, как северное сияние. Однако стоит ей появиться в дверях — и все возвращается на круги своя, это я заметил еще в Нью-Йорке.
Размышляя об этом, я подумал, почему бы ей не позвонить сейчас. Разница во времени с Нью-Йорком составляла три часа. Я заказал разговор и вдруг почувствовал, что сгораю от нетерпения.
Откуда-то, очень издалека, послышался ее голос.
— Наташа, — начал я, — это я, Роберт.
— Кто?
— Роберт.
— Роберт? Ты где? В Нью-Йорке?
— Нет, в Голливуде.
— В Голливуде?
— Да, Наташа. Ты что, забыла? Что с тобой?
— Я спала.
— Так рано?
— Но сейчас уже полночь. Ты меня разбудил. Что случилось? Ты приезжаешь?
«О, черт! — подумал я. — Вечная моя ошибка. Я перепутал время».
— Спокойной ночи, Наташа. Завтра я позвоню снова.
— Хорошо. Ты приезжаешь?
— Еще нет. Я все объясню тебе завтра. Спи.
— Ладно.
«Сегодня у меня был трудный день, — думал я. — Не надо было мне звонить. И многое не надо было делать из того, что я делал». Я злился на себя. Во что я впутался? Какое мне дело до Холта? И зачем мне все это? Я немного подождал, а потом позвонил Кану. У Кана был чуткий сон. И он ответил сразу.
— Что случилось, Роберт? Почему вы звоните? Мы, эмигранты, еще не привыкли пользоваться телефоном, как американцы, для нас разговор на большом расстоянии все еще связан был с чем-то чрезвычайным или с несчастным случаем.
— Что-нибудь с Кармен? — спросил он.
— Нет, но я ее видел. Кажется, она хочет остаться здесь.
Некоторое время он молчал.
— Может, она еще передумает: она ведь там не так уж давно. У нее кто-нибудь есть?
— Не думаю. Разве что хозяйка, у которой она живет. Никого больше, мне кажется, она не знает. Он рассмеялся.
— А когда вы возвращаетесь?
— Мне, наверное, придется задержаться.
Я рассказал ему историю с Холтом.
— Что вы на это скажете? — спросил я.
— Работайте, работайте! Вас, надеюсь, не мучает совесть? Это было бы просто смешно. Или все же мучает? Из чувства патриотизма?
— Нет. — Мне вдруг стало совершенно непонятно, для чего я ему, собственно, звонил. — Я думал о вашем письме.
— Самое главное — пробиться, — сказал Кан, — а уж как — это ваше дело. Я рад, что вас волнует эта проблема, вы решаете ее сейчас, так сказать, в общих чертах и находясь в безопасности, но когда-нибудь всем нам придется заняться ею — и тогда уже всерьез. Это опасность, которая нас подстерегает. Вы сделали первый шаг, но вы можете все послать к черту, когда вам это надоест. Здесь, в Штатах, это еще можно, но позже, там, все будет по-другому. Считайте, что вы приняли боевое крещение, если хотите, так, что ли?
— Именно это мне и хотелось услышать.
— Ну и хорошо. — Он рассмеялся. — Не давайте Голливуду сбить вас с толку, Роберт. В Нью-Йорке вы меня не стали бы спрашивать, как поступить. И это естественно. А Голливуд изобретает глупые этические стандарты, ибо сам во власти коррупции. Смотрите, не станьте жертвой этой милой системы. Даже в Нью-Йорке трудно сохранять трезвый, деловой подход к жизни. Вы видели это на примере Грефенгейма. Его самоубийство бессмысленно — просто проявление слабости. Он все равно никогда не сумел бы вернуться к жене.
— Как поживает Бетти?
— Бетти борется. Хочет пережить войну. Ни один врач не смог бы прописать ничего лучшего. Вы что, стали миллионером — ведете разговоры по телефону через весь континент?
— Пока нет.
Я еще некоторое время пробыл у себя в номере. Дверь была открыта, и я видел кусочек ночи, край освещенного бассейна и верхнюю часть пальмы, одиноко шуршавшей под порывами ночного ветра и что-то бормотавшей про себя. Я думал о Наташе и Кане и о том, что сказал Кан.
Самый трудный час нашего цыганского бытия пробьет тогда, когда наконец мы поймем, что мы никому не нужны. Пока мы еще живем иллюзиями, что все переменится с окончанием войны. Но когда наступит прозрение — все рухнет, и вот тогда-то настанет пора настоящих скитаний.
Это была удивительная ночь. А тут еще пришел Скотт, захотевший взглянуть на рисунок Ренуара, который я привез от Силверса. О том, что он очень пьян, можно было догадаться лишь по его неимоверной настойчивости.
— Мне никогда и не снилось стать обладателем картины Ренуара, признался он. — Еще два года назад у меня было слишком мало денег. Теперь в голове у меня — словно рой пчел — жужжит одна только мысль: хочу собственного Ренуара! И я должен его получить! Сегодня же!
Я снял рисунок со стены и передал ему.
— Вот, держите, Скотт.
Он благоговейно взял его в руки.
— Это он сам рисовал, — произнес он. — Собственноручно. И теперь это мое! Бедный парень из Айова-Сити, из квартала бедняков. По этому случаю надо выпить. У меня, Роберт. С рисунком на стене. Я его немедленно повешу.
Комната Скотта была похожа на поле битвы: повсюду — стаканы, бутылки и тарелки, на которых валялись сандвичи и топорщились выгнувшиеся, подсохшие куски ветчины. Скотт снял со стены фотографию Рудольфа Валентине в роли шейха.
— Как здесь смотрится Ренуар? Как реклама виски, а?
— Здесь он выглядит лучше, чем у какого-нибудь миллионера. У тех — это лишь реклама тщеславия.
Я пробыл у Скотта целый час — он стал рассказывать мне о своей жизни, пока не начал клевать носом. Он считал, что юность его была ужасна, потому что он был очень беден и ему приходилось продавать газеты, мыть посуду и сносить множество мелких унижений. Я не пытался сравнить его жизнь с моею и выслушал его рассказ без иронии.
— Думал ли кто-нибудь, что я смогу выписать чек за Ренуара! — пробормотал он. — Прямо страх берет, а?
Я вернулся к себе. Вокруг электрической лампочки кружило какое-то насекомое с прозрачными зелеными крылышками. Я рассматривал его некоторое время; казалось, будто золотых дел мастер выточил эту тончайшую филигрань, непостижимое произведение искусства — само изящество и трепетная жизнь, и это существо безоглядно шло в огонь, как индийская вдова. Я поймал насекомое и выпустил в прохладу ночи. Через минуту оно опять было в комнате. Я понял, что должен либо заснуть, либо оборвать жизнь этого крошечного существа. Заснуть мне не удавалось. Когда я снова открыл глаза, в дверях стояла какая-то фигура. Я схватил лампу — как орудие защиты в случае необходимости. На пороге была молоденькая девушка в слегка измятом платье.