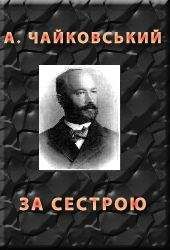Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1894-1897
– Православные, кто в бога верует! Батюшки, обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитеся!
– Бабка, бабка, – сказал строго староста, – имей рассудок в своей голове!
Без самовара в избе Чикильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унизительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки – не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость, набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват во всем; в самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что добывал в «Славянском Базаре» по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет, то на какие деньги его хоронить?.. И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу.
Старик крякнул, взял шапку и пошел к старосте. Уже темнело. Антип Седельников паял что-то около печи, надувая щеки; было угарно. Дети его, тощие, неумытые, не лучше чикильдеевских, возились на полу; некрасивая, весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Баттенберга и сказал:
– Антип, яви божескую милость, отдай самовар! Христа ради!
– Принеси три рубля, тогда и получишь.
– Мочи моей нету!
Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав:
– Отдай!
Смуглый староста казался уже совсем черным и походил на колдуна; он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро:
– От земского начальника все зависящее. В административном заседании двадцать шестого числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге.
Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой.
Дней через десять опять приезжал становой, побыл с час и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная; река давно уже замерзла, а снега все не было, и люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные. Так, в двух-трех домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление, и там они поколели, так как их никто не кормил; забрали овец и, пока везли их, связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос: кто виноват?
– Земство! – говорил Осип. – Кто ж!
– Известно, земство.
Земство обвиняли во всем – и в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит земство. И это пошло с тех пор, как богатые мужики,[56] имеющие свои фабрики, лавки и постоялые дворы, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бранить земство.
Поговорили о том, что бог не дает снега: возить дрова надо, а по кочкам ни ездить, ни ходить. Прежде, лет 15–20 назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, как будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал; говорили о грамоте с золотою печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то; теперь же у жуковцев не было никаких тайн, вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду, и могли они говорить только о нужде и кормах, о том, что нет снега…
Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец, и стали решать, кто виноват.
– Земство! – проговорил уныло Осип. – Кто ж!
VIII
Приходская церковь была в шести верстах, в Косогорове, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать; молиться же ходили за реку. В праздники, в хорошую погоду, девушки наряжались и уходили толпой к обедне, и было весело смотреть, как они в своих красных, желтых и зеленых платьях шли через луг; в дурную же погоду все сидели дома. Говели в приходе. С тех, кто в Великом посту не успевал отговеться, батюшка на Святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек.
Старик не верил в бога, потому что почти никогда не думал о нем; он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь:
– А кто ж его знает!
Бабка верила, но как-то тускло; все перемешалось в ее памяти, и едва она начинала думать о грехах, о смерти, о спасении души, как нужда и заботы перехватывали ее мысль, и она тотчас же забывала, о чем думала. Молитв она не помнила и обыкновенно по вечерам, когда спать, становилась перед образами и шептала:
– Казанской божьей матери, Смоленской божьей матери, Троеручицы божьей матери…[57]
Марья и Фекла крестились, говели каждый год, но ничего не понимали. Детей не учили молиться, ничего не говорили им о боге, не внушали никаких правил и только запрещали в пост есть скоромное. В прочих семьях было почти то же: мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала евангелие, ее уважали и все говорили ей и Саше «вы».
Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеянна и, пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и только, когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя:
– Бог милости прислал!
То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвиженье пили. На Покров[58] в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня; пропили 50 рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чикильдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером, ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. Кирьяк все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги, и так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.
Впрочем, и в Жукове, в этой Холуевке, происходило раз настоящее религиозное торжество. Это было в августе, когда по всему уезду, из деревни в деревню, носили Живоносную. В тот день, когда ее ожидали в Жукове, было тихо и пасмурно. Девушки еще с утра отправились навстречу иконе в своих ярких нарядных платьях и принесли ее под вечер, с крестным ходом, с пением, и в это время за рекой трезвонили. Громадная толпа своих и чужих запрудила улицу; шум, пыль, давка… И старик, и бабка, и Кирьяк – все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача:
– Заступница, матушка! Заступница!
Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой, невыносимой нужды, от страшной водки.
– Заступница, матушка! – рыдала Марья. – Матушка!
Но отслужили молебен, унесли икону, и все пошло по-старому, и опять послышались из трактира грубые, пьяные голоса.
Смерти боялись только богатые мужики, которые чем больше богатели, тем меньше верили в бога и в спасение души, и лишь из страха перед концом земным, на всякий случай, ставили свечи и служили молебны. Мужики же победнее не боялись смерти. Старику и бабке говорили прямо в глаза, что они зажились, что им умирать пора, и они ничего. Не стеснялись говорить в присутствии Николая Фекле, что когда Николай умрет, то ее мужу, Денису, выйдет льгота – вернут со службы домой. А Марья не только не боялась смерти, но даже жалела, что она так долго не приходит, и бывала рада, когда у нее умирали дети.
Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка – расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась и начинала стонать громко и непрерывно: «Умира-а-ю!» Старик спешил за священником, и бабку приобщали и соборовали. Очень часто говорили о простуде, о глистах, о желваках, которые ходят в животе и подкатывают к сердцу. Больше всего боялись простуды и потому даже летом одевались тепло и грелись на печи. Бабка любила лечиться и часто ездила в больницу, где говорила, что ей не 70, а 58 лет; она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей впору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером, голодная и сердитая, – с каплями для себя и с мазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче.