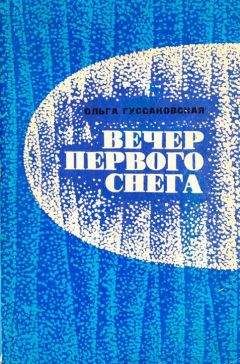Генри Джеймс - Повести и рассказы
Я спустился вниз и провел с бедной мисс Тиной около получаса. У нее и всегда был какой-то замшело-похоронный вид, будто она донашивала старые траурные платья, которых никак не могла износить, а поэтому в ее облике мало что переменилось. Только заметно было, что она плакала, плакала обильно и всласть, бесхитростными, освежающими слезами, давая выход запоздалому чувству одиночества и несправедливости. Ей, однако, и в голову не приходило манерничать, рисоваться своим горем; я даже, признаться, был удивлен, когда она повернулась ко мне, прижимая к груди охапку чудеснейших роз, и в сумеречном свете я увидел в ее покрасневших от слез глазах тень улыбки. Бледное лицо в рамке черных кружев показалось мне еще более длинным и худым. Я был уверен, что она до глубины души возмущена мною, тем более после того, когда меня в тяжелую минуту не оказалось рядом, чтобы помочь ей советом и делом; и хоть я знал, как несвойственно ее натуре злопамятство и как мало значения она привыкла придавать собственным делам, я все же мог ожидать какой-то перемены в ней, каких-то примет обиды или отчуждения, за которыми слышался бы обращенный к моей совести упрек: «Хороших же вы, сударь, дел наделали!» Но верность истине заставляет меня признать, что унылое лицо бедняжки чуть просветлело, что неказистые его черты словно бы даже стали привлекательнее при виде жильца покойной тетушки. Последний был несказанно тронут этим обстоятельством и счел, что оно упростит положение вещей, в чем ему весьма скоро пришлось разубедиться. Но так или иначе, я в тот вечер был ласков с мисс Тиной, как только мог, и оставался в ее обществе, сколько допускали приличия. Ни в какие объяснения мы не пускались. Я не спрашивал, отчего она оставила мое письмо без ответа и уж тем болен не пытался пересказать его содержание. Если ей угодно было делать вид, будто она позабыла, за каким занятием меня застигла мисс Бордеро и какое впечатление это произвело на последнюю, — я мог только радоваться тому; ведь она вполне могла меня встретить как убийцу ее тетушки.
Вдвоем мы бродили по саду, и даже когда разговор не шел об утрате, постигшей мисс Тину, сознание этой утраты нас не покидало — оно было в моем подчеркнутом внимании к собеседнице и в том доверчивом выражении, с которым она смотрела на меня, словно убедившись, что я не потерял интереса к ней, рассчитывала найти во мне опору. Мисс Тина не была создана для гордых потуг на самоутверждение, она даже не пыталась делать вид, будто ясно представляет себе, что теперь станется с нею. Я, однако же, избегал заговаривать об этом, ибо отнюдь не намерен был связывать себя какими-либо обещаниями помощи или защиты. Ничего дурного, полагаю, в моей осторожности не было; просто я понимал, что, при ее полном незнании жизни, мисс Тине легко может показаться естественным, что я — поскольку я, несомненно, жалею ее — возьму на себя заботу об ее судьбе. Она рассказала мне о последних минутах мисс Бордеро, которая, видимо, угасла тихо и без страданий, и о том, как добрые друзья избавили ее, мисс Тину, от всех хлопот, связанных с похоронами, благо деньги в доме нашлись, благодаря мне, о чем она не преминула напомнить с улыбкой. Попутно она повторила еще раз, что уж если кто заслужил расположение «порядочных» итальянцев, то приобрел в них друзей на всю жизнь; а когда мы окончательно исчерпали эту тему, она стала расспрашивать меня о моей поездке, о моих приключениях и впечатлениях, обо всех местах, где я побывал. Я отвечал как мог, кое-что грешным делом и присочиняя, ибо то смятенное состояние, в котором я тогда находился, помешало мне многое увидеть и запомнить. Выслушав мой рассказ, мисс Тина воскликнула, словно на миг позабыв и тетушку, и свое горе: «Господи, вот бы и мне тоже хоть немного попутешествовать, повидать свет!» Мне тут пришло на ум, что я, в сущности, должен бы предложить ей осуществить это желание, выразить свою готовность сопровождать ее куда угодно; но вслух я заметил только, что небольшую поездку, которая бы помогла ей рассеяться, можно, пожалуй, устроить, мы это еще обдумаем и обсудим. Что касается наследия Асперна, то о нем я речи не заводил, не спросил ни разу, удалось ли ей прояснить что-либо еще до кончины мисс Бордеро, и если да, то что именно. Не то чтобы меня не жгло нетерпение это узнать, но мне казалось, что было бы неприлично вновь обнаружить свои корыстные устремления так скоро после случившегося несчастья. Была у меня тайная мысль, что мисс Тина сама что-нибудь скажет — но нет, она не обмолвилась и словом, и в ту минуту я даже нашел это в порядке вещей. Однако же, когда я позднее вспоминал весь наш разговор, мне вдруг показалась подозрительной подобная сдержанность. В самом деле, говорила же она о моих путешествиях, о предметах столь отдаленных, как фрески Джорджоне в соборе в Кастельфранко; так неужто же нельзя было хоть намеком коснуться того, что, как ей хорошо было известно, занимало меня больше всего на свете. Ведь едва ли, потрясенная своим горем, она вовсе позабыла о живейшем интересе, питаемом мною к некоторым реликвиям, так свято хранившимся покойницей, а стало быть — и я внутренне похолодел от такой догадки, — стало быть, ее молчание может означать, что реликвии эти больше не существуют.
Мы простились в саду, она первая сказала, что ей пора; теперь, когда она была единственной обитательницей piano nobile, я чувствовал, что уже не могу (по венецианским понятиям, во всяком случае) так свободно, как прежде, вторгаться в его пределы. Пожелав ей спокойной ночи, я спросил, есть ли у нее какие-нибудь планы на будущее, думала ли она, как ей лучше устроить свою жизнь. «Да, да, разумеется, но я еще ничего не решила», — воскликнула она в ответ почти радостно. Не надеждой ли, что я все решу за нее, была вызвана эта радость?
Наутро я оценил преимущества невнимания к вопросам практическим, проявленного нами накануне: оно давало мне повод сразу же искать новой встречи с мисс Тиной. Один такой практический вопрос особенно меня беспокоил. Я считал своим долгом довести до сведения мисс Тины, что, разумеется, не претендую на дальнейшее пребывание в доме в качестве жильца, а заодно и поинтересоваться, как тут обстоят дела у нее самой — чем юридически подкреплены ее права на этот дом. Но ни тому, ни другому не суждено было стать предметом обстоятельного разговора.
Я не послал мисс Тине никакого предупреждения; я просто спустился вниз и стал прогуливаться по sala взад и вперед в расчете на то, что она услышит мои шаги и выйдет. Мне не хотелось замыкаться с нею в тесноте гостиной; под открытым небом или на просторе sala, казалось, говорится легче. Утро было великолепное, но что-то в воздухе уже предвещало конец долгого венецианского лета — не свежесть ли ветерка с моря, что шевелил цветы на клумбах и весело гулял по дому, теперь уже не столь тщательно закупоренному и затемненному, как при жизни старухи. Близилась осень, завершение золотой поры года. Близился и конец моего предприятия — быть может, он наступит через каких-нибудь полчаса, когда я окончательно узнаю, что все мои мечты обратились в прах. После этого мне останется лишь уложить вещи и ехать на станцию; не могу же я — в свете утра мне это стало особенно ясно оставаться здесь чем-то вроде опекуна при пожилом воплощении женской беспомощности. Если мисс Тина не сумела сберечь письма Аснерна, я свободен от всякого долга перед нею. А если сумела? Кажется, я невольно вздрогнул, задавая себе вопрос — как и чем в таком случае я смогу этот долг оплатить. Не придется ли мне в благодарность за такую услугу взвалить все же на себя бремя опекунства? Я шагал из угла в угол, размышляя обо всем этом, и впасть в полное уныние мне мешало лишь то, что я почти не сомневался в бесплодности моих размышлений. Если старуха не уничтожила свои сокровища еще до того, как застала меня врасплох у секретера, то уж наверно позаботилась сделать это на следующий день.
Понадобилось несколько больше времени, чем я ожидал, чтобы мои расчеты оправдались; но когда мисс Тина показалась наконец на пороге, то не выразила при виде меня ни малейшего удивления. В ответ на мое замечание, что я давно уже ее жду, она спросила, отчего же я не уведомил ее о своем приходе. Я чуть было не сказал, что понадеялся на ее дружеское чутье, но что-то удержало меня; как радовался я этому несколько часов спустя, каким утешительным было для меня сознание, что даже в столь ничтожной мере я не позволил себе сыграть на ее чувствах! Сказал же я вместо этого чистую правду — что был слишком взволнован, ибо готовлюсь услышать от нее свой приговор.
— Приговор? — переспросила мисс Тина, как-то чудно взглянув на меня; и тут только я заметил в ней странную перемену. Да, она была не та, что вчера, не такая естественная, не такая простая. Вчера она плакала, сегодня следов слез не было видно, зато появилась поразившая меня натянутость в обращении. Как будто что-то произошло с ней ночью или какая-то новая мысль ее смутила, и касалось это ее отношений со мною, запутывало их и осложняло. Забрезжила ли перед ней та простая истина, что сейчас, когда она живет без тетки, одна, я уже не могу оставаться в доме на прежнем положении?