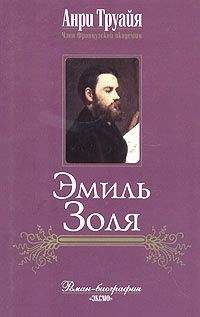Эмиль Золя - Земля
В тот день, когда Фуан появился в Замке — так называли бывший погреб, в котором жил браконьер, — уже за первым же завтраком, во время которого Пигалица прислуживала отцу я деду, почтительно стоя у них за спиной, веселая музыка звучала вовсю. Старик раскошелился на сто су, а потому в воздухе распространялся приятный запах красных бобов и телятины с луком. Готовя все это, Пигалица то и дело облизывала пальцы. Подавая бобы, она чуть-чуть не разбила блюдо, скорчившись от обуявшего ее хохота: прежде чем сесть за стол, Иисус Христос через равные промежутки времени трижды издал непристойный звук, сухой, как удар бича.
— Праздничный салют!.. Это для начала.
Затем, понатужившись, он добавил еще один, раскатившийся с оглушительным грохотом:
— А это для негодяев Бюто! Пусть они подавятся!
Фуан с самого прихода сидел мрачный, но тут он рассмеялся, одобрительно кивнув головой. Проделка сына его развеселила. Было время, когда и его считали шутником, и в его доме дети росли под звуки отцовской канонады. Он оперся локтями о стол и, глядя на старого повесу Иисуса Христа, предался блаженному состоянию. Сын тоже умиленно смотрел на отца добродушным и жуликоватым взглядом.
— Ну и заживем же мы с вами, папаша, как сыр в масле будем кататься!.. Ей-богу, превосходно, что мы вместе… Вы вот увидите, на что я способен!.. Чего хорошего в том, что копошишься в земле, как крот, а себе отказываешь в лишнем куске?
Пожалев о своей безрадостно прожитой жизни и чувствуя потребность забыться, Фуан в конце концов согласился:
— И в самом деле, уж лучше все промотать, чем оставлять другим. За твое здоровье, сынок!
Пигалица уже подавала телятину с луком. Наступило молчание, и Иисус Христос, стремясь поддержать беседу, тотчас же ахнул протяжным звуком. Проходя сквозь соломенное сиденье, ветры просвистели певуче, как человеческий голос. Иисус Христос тотчас же повернулся к дочери и серьезно спросил:
— Ты что-то сказала?
Пигалица так и присела, схватившись за живот. Но доконало ее то, что выкинули отец и дед, когда и телятина и сыр были съедены. Оба они закурили трубки и были до того пьяны, что уже молча допивали литровую бутылку водки, стоявшую на столе. Иисус Христос медленно приподнял зад, ахнул, а потом, посмотрев на дверь, сказал:
— Войдите!
Тут и Фуан, которого уже начинало злить, что у него так долго ничего не получается, раззадорился и, вспомнив свою молодость, отставил задницу и тоже трахнул в ответ:
— А вот и я!..
Оба хлопнули по рукам и залились веселым смехом, брызгая слюной. Тут Пигалица уже не выдержала. Она так и покатилась по полу, сотрясаясь от обуявшего ее хохота, и в конце концов тоже издала легкий звук, который по сравнении с органным рокотом мужчин казался тонким и нежным, как звук флейты.
Иисус Христос пришел в негодование. Он вскочил с места и, патетически взмахнув рукою, властно показал на дверь:
— Прочь отсюда, свинья!.. Прочь, вонючка!.. Я тебя, чертовка, научу уважать старших!
Он не мог простить ей этой непочтительности. Сперва надо дожить до их лет! Он принялся отгонять от себя воздух, как будто боялся, что это легкое дуновение флейты грозит ему удушьем. Его выстрелы, говорил он, пахнут только порохом. Пигалица была смущена своим проступком. Она стояла вся красная, но не сознавалась и не желала уходить. Тогда отец вышвырнул ее за дверь.
— Подлая грязнуха! Изволь перетряхнуть свои юбки!.. И возвращайся не раньше, чем через час, когда как следует проветришься!
С этого дня началась поистине беззаботная и веселая жизнь. Старику уступили комнату Пигалицы — одно из помещений бывшего погреба, разделенного на две части дощатой перегородкой, — а сама она с готовностью перебралась в углубление, представлявшее как бы заднюю комнату, куда, по преданию, выходили огромные подземелья, засыпанные многократными обвалами. Хуже всего было то, что Замок, эта лисья нора, с каждой зимой все глубже и глубже уходил в землю. Дождевые воды, струившиеся по крутому склону, заносили его камнями. Все строение вместе со старым фундаментом давным-давно было бы начисто смыто, если бы его не удерживали могучие корни столетних лип, росших на холме. Но с наступлением весны развалина эта превращалась в прелестный уголок, уединенный грот, затерянный в зарослях боярышника и ежевики. Шиповник, скрывавший единственное окно, зацветал розовыми цветами, над дверью спускались цветущие ветви дикой жимолости, которые приходилось, как занавес, отстранять рукой, чтобы войти внутрь.
Конечно, готовить красные бобы и телятину с луком Пигалице доводилось не каждый день. Это бывало лишь в том случае, когда у Фуана удавалось выудить монетку в сто су. Иисус Христос не прибегал к принуждению; он беззастенчиво соблазнял старика разговорами о всяких лакомствах, играя на его чувствах. Обычно они роскошествовали в начале месяца, когда Фуан получал от Деломов свои шестнадцать франков.
Но раз в три месяца, когда нотариус выплачивал тридцать семь с половиной франков ренты, устраивалось настоящее пиршество. Сперва от старика нельзя было получить больше десяти су зараз: с его закоренелой скаредностью он хотел по возможности растянуть свои денежки. Но мало-помалу и он поддавался влиянию шалопая-сына. А тог всячески старался его ублажить, веселил самыми необыкновенными проделками. Старик бывал этим до того растроган, что иногда отдавал сразу по два — три франка. Он и сам сделался настоящим чревоугодником, уговаривая себя, что лучше уж раз поесть, да как следует — ведь рано или поздно все равно деньги будут проедены. Впрочем, надо отдать Иисусу Христу справедливость: в долгу перед отцом он не оставался, и если он обворовывал старика, то, по крайней мере, развлекал его. В начале месяца, пока желудок был наполнен, Иисус Христос как бы забывал о спрятанной кубышке и ни о чем не допытывался: покуда отец тратился на пирушки, он мог распоряжаться ею по своему усмотрению — большего от него нельзя было и требовать. Спрятанные деньги вновь начинали мерещиться сыну только недели через две, когда отцовские карманы окончательно пустели и из них уже нельзя было извлечь ни гроша. Он ворчал на Пигалицу за то, что она подавала на обед картофельное пюре без масла, потуже перетягивал себе живот, думая о том, что глупо, в конце концов, прятать где-то деньги, а самому голодать и что все равно придется как-нибудь откопать эту знаменитую кубышку!
Однако и в голодные вечера, потягиваясь исхудавшим телом, он старался не поддаваться унынию, оставался по-прежнему неугомонным и шумным и, как после сытного обеда, возрождал веселье мощным залпом своей артиллерии.
Но Фуан не скучал даже и под конец месяца, когда всем обитателям Замка приходилось довольно туго: в такое время отец и дочь обычно отправлялись промышлять пищу. Старик примирился и с этими их похождениями. Когда Пигалица впервые принесла курицу, которую она поймала на удочку, закинув ее на чужой двор, он не на шутку рассердился. Но в другой раз он уже сам смеялся, когда она, спрятавшись на дереве с удочкой в руке, забросила крючок с кусочком мяса прямо в стадо уток. Вскоре одна из уток, проглотив приманку вместе с крючком, была вздернута наверх с такой быстротой, что не успела даже пикнуть. Разумеется, за такие вещи хвалить не приходится, но, в конечном счете, разве скотина, которая бродит на воле, не принадлежит тому, кто сумеет ее поймать? И вором можно назвать только того, кто крадет чужие деньги. Теперь он стал интересоваться невероятными проделками этой пройдохи: тут был и украденный мешок картофеля, который ей помог донести сам владелец, и молоко, выдоенное в бутылку у пасущейся коровы, и принесенное прачками на реку белье, которое Пигалица топила камнями, а ночью вылавливала со дна Эгры. Она постоянно шаталась по дорогам, якобы присматривая за своими гусями. Сидя часами у обочины дороги, притворившись, будто дремлет, пока пасется ее стадо, она на самом деле подкарауливала любую возможность чем-нибудь поживиться. Гуси служили для нее также и сторожевыми псами: при появлении постороннего гусак-предводитель начинал шипеть и таким образом предупреждал ее об опасности. Хотя в ту пору ей уже минуло восемнадцать лет, на вид ей можно было дать не больше двенадцати. Она была тоненькой и гибкой, как ветка тополя, с козьей мордочкой, раскосыми зелеными глазами и большим, скривившимся на левую сторону ртом. Ее маленькая, почти детская грудь, скрытая под старыми отцовскими блузами, стала твердой, но нисколько не увеличивалась в объеме. Она вела себя, как настоящий мальчишка, любила только своих гусей и смеялась над мужчинами, что не мешало ей, впрочем, гоняясь в пятнашки с каким-нибудь сорванцом, ложиться под конец на спину. Но это было в порядке вещей и ни к чему ее не обязывало. К счастью, она забавлялась исключительно со своими сверстниками. Было бы гадко, конечно, если бы люди почтенного возраста, старики, не оставляли ее в покое. Но они находили девчонку слишком щуплой. В общем, как говорил ее дед, умиленный ее потешными выходками, если не считать того, что Она слишком много воровала и вела себя не очень пристойно, она была забавной девкой и вовсе не такой уж стервой, как это обычно думали.