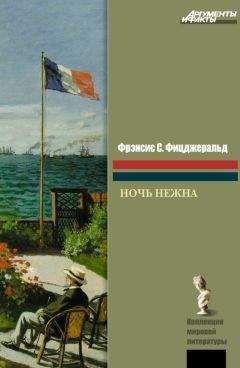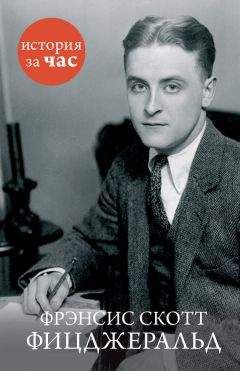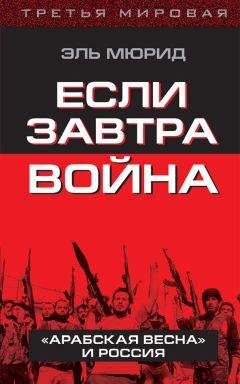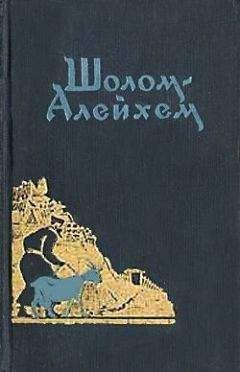Фрэнсис Фицджеральд - Ночь нежна
— Терпеть не могу английскую манеру оглушительным шепотом говорить о людях гадости.
Леди Керолайн уже была у дверей, но при этих словах повернула обратно и, вплотную подойдя к Дику, отчеканила негромко, но с таким расчетом, чтобы слышали все, кто был в комнате:
— Пеняйте на себя — ведь вы нарочно поносили моих соотечественников, мою приятельницу Мэри Мингетти. А я только сказала, что вас видели в Лозанне в компании сомнительных личностей. И мои слова никого, кажется, не оглушили. Разве что вас.
— Для этого они недостаточно громки, — сказал Дик, немного, впрочем, запоздав с ответом. — Итак, по-вашему я отъявленный…
Но Голдинг утопил конец его фразы в громоподобных: «Идемте! Идемте!» — напором всей своей мощной фигуры тесня гостей к выходу. Уже с порога Николь успела заметить, что Дик по-прежнему неподвижно сидит за столом.
Она негодовала на леди Сибли-Бирс за ее нелепые выдумки и в равной мере негодовала на Дика за то, что он захотел сюда ехать, за то, что напился, за то, что вдруг выставил наружу колючки своей иронии, за то, что не сумел с честью выйти из спора, — и к этому примешивалось еще легкое недовольство собой; ведь она понимала, что первая вызвала раздражение англичанки, безраздельно завладев Томми Барбаном с минуты своего появления на яхте.
Немного спустя она мельком увидела Дика — он стоял у трапа, беседуя с Голдингом, и на вид был совершенно спокоен. Потом он ей долго не попадался на глаза, и через полчаса, попросив кого-то заменить ее в замысловатой малайской игре с нанизанными на веревочку кофейными зернами, она сказала Томми:
— Пойду поищу Дика.
Во время обеда «Марджин» снялась с якоря и теперь полным ходом шла на запад. Под приглушенный стук дизелей скользили по сторонам мягкие вечерние тени. На баке Николь сразу обдуло теплым ветром, растрепавшим ей волосы, и с внезапным чувством облегчения она узнала впереди, у флагштока, фигуру мужа. Завидев ее, он сказал ровным голосом:
— Чудесный вечер.
— Я не знала, где ты, и забеспокоилась.
— Да неужели?
— Не надо так говорить со мной, Дик. Я бы с такой радостью что-нибудь для тебя сделала, хоть пустяк какой-нибудь, но ничего не могу придумать.
Он отвернулся и стал смотреть туда, где за звездной завесой лежала Африка.
— Верю, Николь. Мне даже иногда кажется, что пустяк ты бы сделала с особенной радостью.
— Зачем ты так говоришь, Дик, — не надо.
В сиянии звезд, которое море подхватывало и пригоршнями белой пены швыряло обратно к небу, лицо Дика казалось бледным, но не злым, как можно было ожидать. В нем чувствовалась какая-то отрешенность; он медленно сосредоточивал свой взгляд на Николь, как шахматист на фигуре, которую готовится передвинуть; потом он взял ее за руку выше кисти и так же неторопливо притянул к себе.
— Говоришь, ты меня погубила? — спросил он почти ласково. — Но если так, мы оба с тобой — погибшие. А значит…
Холодея от страха, она втиснула и другую свою руку в его цепкие пальцы.
Хорошо, пусть, она пойдет за ним — красота майского вечера ощущалась особенно остро в этот миг самоотречения и готовности к душевному отклику — хорошо, пусть…
…но вдруг она почувствовала свои руки свободными, и Дик, тяжело вздохнув, повернулся к ней спиной.
У Николь потекли по лицу слезы. Кто-то приблизился к ним, мягко ступая по доскам палубы, — Томми Барбан.
— А, нашелся! Вы знаете, Дик, Николь боялась, не бросились ли вы часом в воду из-за того, что вас отчехвостила эта английская пигалица.
— А что, неплохое было бы решение — броситься в воду, — тихо сказал Дик.
— В самом деле! — поспешно подхватила Николь. — Давайте запасемся пробковыми поясами и бросимся в воду. Давно пора нам выкинуть что-нибудь экстравагантное. Мы живем слишком скучной, ограниченной жизнью.
Томми потянул носом, глядя то на одного, то на другого, как будто думал в свежем вечернем воздухе унюхать, что тут происходит.
— Давайте посоветуемся с леди Фигли-Мигли — она нас просветит насчет dernier cri[91] в этом деле. И надо бы нам выучить наизусть ее песенку. Я ее переведу на французский язык, и она будет иметь бешеный успех в казино, а я огребу кучу денег.
— Томми, вы богатый человек? — спросил Дик, когда они шагали втроем от носа к корме.
— Не то чтобы очень. Биржа мне надоела, и я ее бросил. Но у меня кое-что есть в ценных бумагах, которые я препоручил верным людям. В общем, пока жить можно.
— Дик собирается разбогатеть, — сказала Николь. У нее уже наступила реакция, и голос слегка дрожал.
На корме танцевали три пары — Голдинг чуть ли не вытолкнул их в круг.
Николь и Томми тоже пошли; танцуя, Томми заметил:
— Дик стал много пить.
— Совсем не много, — честно вступилась Николь.
— Одни люди умеют пить, другие нет. Дик явно не умеет. Вы бы запретили ему.
— Я? — изумилась Николь. — Вы думаете, я могу что-то запрещать или разрешать Дику?
Когда «Марджин» бросила якорь на рейде в Канне, Дик был необычно молчалив и казался рассеянным и сонным. Голдинг самолично усадил его в спущенную шлюпку, следом за леди Керолайн, которая тотчас же демонстративно пересела на другое место. Выйдя на берег, Дик отвесил ей преувеличенно церемонный поклон и, кажется, собирался пришпорить ее какой-то колкостью на прощанье, но Томми больно придавил локтем его руку, и они пошли к дожидавшейся неподалеку машине.
— Я вас отвезу, — предложил Томми.
— Не затрудняйтесь, мы можем просто взять такси.
— Да я с удовольствием — если еще оставите переночевать.
Дик молча полулежал на заднем сиденье, пока машина шла берегом через желтый монолит Гольф-Жуана, через Жуан-ле-Пен, где никогда не стихало карнавальное веселье, где ночь звенела музыкой и разноязыкими голосами певцов. Но когда они стали подниматься в гору, он вдруг выпрямился — возможно, машину тряхнуло на повороте — и сделал попытку произнести речь.
— Очаровательная представительница… — он на миг запнулся, — …представительница фирмы… подайте мне мозги, взбитые a l’Anglaise… — И, откинувшись на спинку, заснул мирным сном, только время от времени благодушно рыгая в бархатистую темноту ночи.
6
Рано утром Дик вошел к Николь в спальню.
— Я ждал, пока не услышал, что ты встала, — сказал он. — Сама понимаешь, я очень сожалею о вчерашнем, но давай без аутопсии, ладно?
— Как хочешь, — холодно ответила она, приблизив лицо к туалетному зеркалу.
— Нас сюда привез Томми? Или мне это приснилось?
— Ты прекрасно знаешь, что он.
— Весьма возможно, — согласился Дик, — поскольку я только что слышал его кашель. Пойду загляну к нему.
Впервые в жизни, кажется, она порадовалась его уходу — наконец-то его раздражающая способность всегда и во всем оказываться правым изменила ему.
Томми уже ворочался на постели в предвкушении cafe au lait.[92]
— Как спали? — спросил Дик.
Услышав, что у Томми побаливает горло, он отнесся к этому с профессиональной деловитостью.
— Надо пополоскать на всякий случай.
— А у вас есть какое-нибудь полосканье?
— Представьте себе — нет. Наверно, у Николь есть.
— Не нужно беспокоить Николь.
— Она уже встала.
— Как она?
Дик медленно повернулся кругом.
— Вы что думали, если я выпил лишнее, она этого не переживет? — Он говорил с улыбкой. — Сегодняшняя Николь вырублена из той сосны, что растет в лесах Джорджии, а это самое крепкое дерево на свете после новозеландского эвкалипта…
Николь, спускаясь с лестницы, слышала часть их разговора. Она знала, что Томми любит ее, всегда любил; и знала, что в нем нарастает неприязнь к Дику, который это понял раньше его самого; и что Дик не оставит без внимания безответную страсть Томми. Эта мысль доставила ей минуту чисто женского торжества. Она стояла у стола, за которым завтракали ее дети, и давала распоряжения гувернантке, а наверху беседовали двое мужчин, которые были заняты только ею.
Хорошее настроение не покинуло ее и позже, за работой в саду. Она не жаждала никаких происшествий; только бы длился и длился безмолвный поединок, в котором те двое перебрасывались мыслью о ней, — приятно после долгого перерыва вновь почувствовать, что существуешь, хотя бы в виде мячика.
— Что, крольчишка, славно? Как по-твоему? Ну что же ты, кролик, — ведь славно, да? Или ты не согласен со мной?
Кролик наудачу подергал носом туда-сюда, но, ничего более интересного не обнаружив, согласился и был вознагражден кучкой капустных листьев.
Николь продолжала заниматься своими повседневными делами. Срезала цветы для комнатных ваз и оставляла их на условленных местах: садовник потом принесет все сразу, и можно будет составить букеты. Когда она дошла до обрыва над морем, ей вдруг захотелось с кем-то поговорить по душам, но было не с кем, и разговор заменило раздумье. Ее немного смущало открытие, что она может испытать что-то к чужому мужчине; но у других женщин бывают же любовники — чем я хуже? В свете ясного весеннего утра мужской мир не казался запретным, и мысли ее были пестрыми, как цветы, а ветер хозяйничал в ее волосах и словно бы в голове тоже. У других женщин бывают любовники… Та самая сила, что вчера требовала от нее неотступной верности Дику до смертного предела, сегодня заставляла ее улыбаться на ветру простой и утешительной логике этого «чем я хуже?».