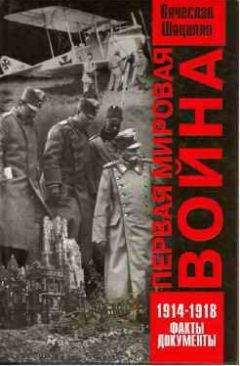Луи Арагон - Орельен. Том 1
Жажда абсолюта… Клинические формы этого заболевания поистине многообразны, или, вернее, слишком многочисленны, чтобы пытаться их назвать. Предпочтительнее поэтому описать какой-нибудь единичный случай. Но только при условии не упускать из виду его родства с тысячью других случаев, с другими недугами, внешне столь непохожими, что их обычно не связывают с данным случаем — ведь не существует микроскопа, помогающего обнаружить возбудитель, вследствие чего мы еще не научились выделять этот вирус, и за неимением лучшего зовем его жаждой абсолюта…
Однако какие бы разнообразные формы ни принимала болезнь, можно без особого труда проследить симптомы, присущие всем ее формам, даже перемежающимся. Симптом этот есть не что иное, как полная неспособность индивидуума быть счастливым. Тот, кто одержим жаждой абсолюта, безразлично, знает ли он об этом или даже не подозревает размеров опасности, — может, в силу своей страсти, стать вожаком народа, полководцем, или, по той же самой причине, — образцом бездеятельности и самого мещанского негативизма; тот, кто заражен жаждой абсолюта, может быть юродивым, сумасшедшим, гордецом или педантом, но счастливым быть не может. Его требования ко всему, что может принести счастье, не имеют границ. В ярости, обращенной против себя самого, он разрушает то, что могло бы стать его радостью. Он лишен даже ничтожнейшего таланта быть счастливым. Позволю себе добавить, что он все же наслаждается этим самоистреблением. Что к своей напасти он примешивает бог знает какую идею достоинства, величия, морали — в зависимости от образа мысли, воспитания, нравов, условий окружающей среды. Что вкус к абсолюту приводит к головокружительной бездне абсолюта. Что сопровождается этот недуг известным состоянием экзальтации. Поскольку эта экзальтация дает себя знать в болезнетворных точках, в самом очаге распада, вкус к абсолюту в глазах людей неискушенных может сойти за вкус к несчастью. Тут и в самом деле есть много общего, но в данном случае вкус к несчастью является лишь вторичным. Вкус к несчастью предполагает все же какое-нибудь определенное несчастье. Тогда как абсолют, даже в самых незначительных мелочах, сохраняет свой характер абсолюта.
Относительно почти всех существующих болезней врачи могут с уверенностью сказать, как они начинаются, каким путем проникают в организм и сколько дней длится инкубационный период, они опишут вам скрытую работу микроорганизмов, предшествующую разгару заболевания. Но с этими не распознанными еще маниями, которые носит в себе вполне нормальный человек, мы попадаем в область чистейшей алхимии чувств. Романисты сплошь и рядом показывают нам лишь первые ростки характера, не вдаваясь в его историю, возводя его к впечатлениям детских лет, ссылаясь на наследственность, на окружение, на сотни самых различных причин. Надо сказать, что эти доводы звучат убедительно лишь в редких случаях или же убедительны только в силу удачных гипотез, удача которых, впрочем, весьма относительна. Самое большее, что мы можем сделать, это заявить, что имеются-де ревнивые женщины, робкие мужчины, убийцы, скупцы. Нам остается принимать эти характеры как нечто данное и окончательное, меж тем как и ревность, и тяга к убийству, и застенчивость, и скупость воплощены в самых различных типах, притом весьма ярких.
Не знаю, откуда у нее взялась эта жажда абсолюта. Знаю только, что у Береники была жажда абсолюта.
Это-то без сомнения смутно почувствовал Барбентан, когда сказал Орельену, что вместе с его двоюродной сестрой в дом вторгаются все силы ада. Что он знал о Беренике? Конечно, ничего не знал. Но бывает так, что мужчина разгадывает душу женщины каким-то подспудным инстинктом, испытанным нюхом, и этот нюх в сотни раз превосходит знаменитую женскую проницательность, о которой нам прожужжали все уши. Орельен, которого сначала насторожила эта несколько необычайная фраза, столь плохо вязавшаяся с обликом встреченной им впервые женщины, забыл о разговоре с Эдмоном, когда между ним и Береникой установились отношения, которые были им важнее, чем любое суждение постороннего лица. Так он приблизился к бездне, был притянут этой бездной, но не знал, что эта бездна существует. Их роман, роман Орельена с Береникой, определяло с первой их встречи именно это противоречие: несходство между Береникой, которую видел он, и той Береникой, которую видели другие; контраст между этим веселым, непосредственным, невинным ребенком и адом, который она несла в себе, несоответствие между Береникой и ее тенью. Быть может, именно этим объяснялось то обстоятельство, что Береника казалась двуликой, она была и ночным и дневным светом попеременно, иными словами — не одной, а двумя женщинами, заточенными в единое существо. Девчушка, которая могла забавляться каким-нибудь нестоящим пустяком, женщина, которая не могла удовлетвориться ничем.
Ибо Беренику поразил недуг: жажда абсолюта.
Она находилась в той поре жизни, которую должны были заполнить поиски абсолюта, воплощенного в реальном существе, она искала его напряжением всех своих сил. Горькое разочарование девических лет, которое, возможно, возникло именно в силу этой, не знавшей насыщения жажды абсолюта, требовало немедленного реванша. Если взрослая Береника, так похожая на гипсовую маску, готовая к любому разочарованию, сомневалась в Орельене, то девчушка Береника, которой никто не подумал даже подарить куклу, любой ценой желала наконец-то найти воплощение своих грез, живое доказательство величия, благородства, бесконечности. Бесконечности в конечном. Ей требовалось нечто совершенное. Ее влечение к Орельену причудливо переплеталось с теми требованиями, которые она предъявляла всему на свете. Ошибку совершат те, кто заключит из моих слов, будто эта жажда абсолюта сродни скептицизму. Правда, иной раз она говорит языком скептицизма, как говорит она языком отчаяния, но говорит так прежде всего потому, что наличие абсолюта предполагает глубокую, безграничную веру в красоту, добро или, скажем, гений. Требуется огромная доза скептицизма, дабы удовлетворяться тем, что есть. Влюбленные в абсолют отвергают реальное лишь вследствие исступленной веры в то, чего быть не может и чего нет. Если Береника стала для Орельена западней, в которую он неизбежно должен был попасться, то и сам он стал для Береники разверстой бездной, и она знала это, слишком любила эту бездну, чтобы не склониться над ее зияющей пустотой. Когда Орельен признался ей — таким тоном, которым не обманывают, — что ни разу в жизни еще не говорил женщине: «Я люблю вас», мог ли он знать, что творит? Мог ли представить себе, какую пищу дает он гибельному огню, который не погаснет всю жизнь? Если он не солгал, а она всеми своими силами, всеми тайниками своей души не хотела, чтобы он лгал, — значит, ей открылся наконец абсолют, ей дается единственная и неповторимая возможность очутиться лицом к лицу с абсолютом. Ей необходимо было, чтобы он ее любил. Это было куда более необходимое условие существования, чем воздух, более необходимое, чем сама жизнь. С помощью этого загадочного и простого человека, в сущности обычного парижского прохожего, ей удалось возвыситься, достичь того существования, которое столь же несоизмеримо с обычным существованием, как солнце — с солнечным светом. Ей необходимо было, что он ее любил. Разве любовь Орельена не стала оправданием всей жизни Береники? Теперь уже поздно было требовать, чтобы она отказалась от его любви, как нелепо было бы требование, чтобы она отказалась думать, дышать, жить. И без сомнения, сама жизнь легче уступает смерти, чем умирает любовь.
Береника не задумывалась, куда влечет ее тот, кого она любит. Не задумывалась, что это — любовь, которую она не желала упустить (а ведь была минута, когда одно слово или умолчание — и она еще могла бы спастись)… не задумывалась, имеет ли она право поощрить, право принять эту любовь, вдохнуть в нее, себе на гибель, жизнь. Ибо любовь, подобно человеку, умирает от горя, умирает в мучительном томлении и вздохах, в поту и судорогах, и тот, кто позволил окрепнуть муке и мучается, тот хуже убийцы. Она не задумывалась над тем, куда влечет ее тот, кого она любит, потому что была охвачена жаждой абсолюта и потому, что любовь Орельена, справедливо или нет, в ее глазах носила на себе мрачную и упоительную печать абсолюта! И — сродни абсолюту — любовь эта сама себя вскармливала; не Беренике было утишить ее или разжечь, удовлетворить или успокоить. Разве важно то, что любовь, разделенная и признанная, рождает муки? Разве в самой любви не заключена ее цель? Разве все препятствия на пути любви, все препятствия, каких никогда не преодолеть, не составляют главного ее величия? Береника склонна была думать, что любовь, когда это счастливая любовь, гаснет и умирает. И снова тут давала себя знать жажда абсолюта, полная неспособность Береники ужиться со счастьем. Во всяком случае, ни счастье, ни горе не были обычным мерилом поступков Береники. Она и впрямь была хуже убийцы.